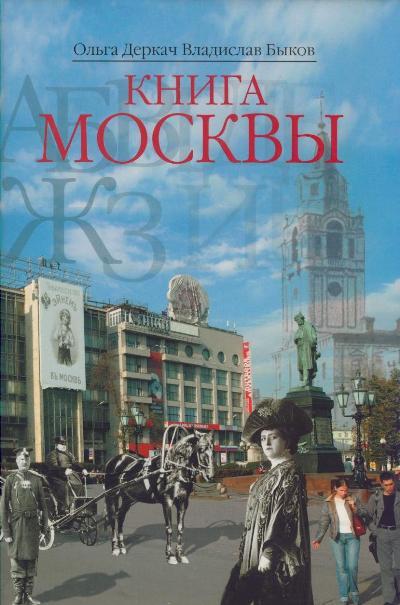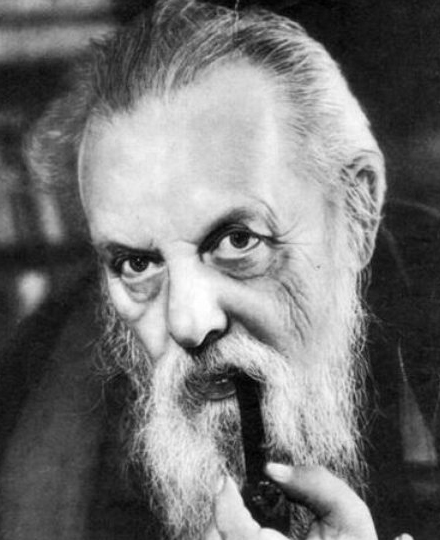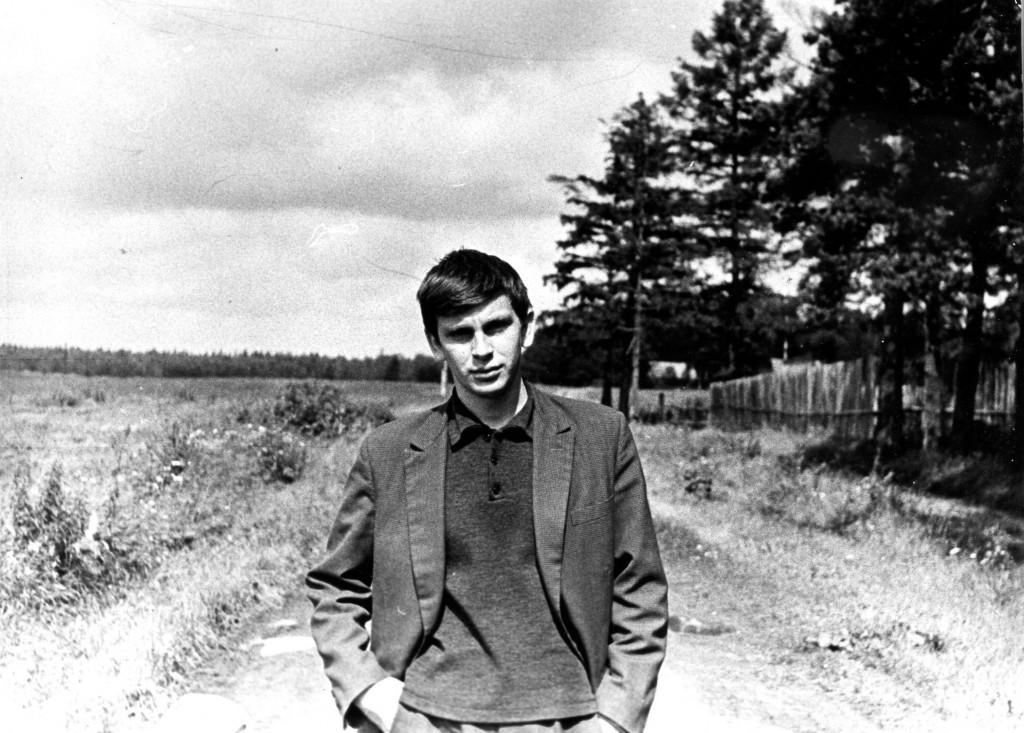АРЖАННИКОВ Дмитрий Михайлович (1910-1981 г.), талантливый салдинский поэт, прозаик и драматурга, ветеран Великой Отечественной войны, автор многочисленных стихов, прозы, сатирических миниатюр, поэм и пьес.
Дмитрий Аржанников всю свою сознательную жизнь посвятил творчеству, четверть века возглавлял городское литературное объединение «Голос». Родился он 23 февраля 1910 года в поселке Красногвардейск Свердловской области. Детство и юность его прошли в Верхней Салде, где он окончил семь классов. Затем были годы учебы в Нижнетагильском горно-металлургическом техникуме и Московском институте повышения квалификации.
В 1934 году Дмитрий переехал на постоянное место жительства в Свердловск. В сентябре 1941 года ушел на фронт. Участвовал в боях под Москвой. Был тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. После войны работал в мартеновском цехе ВСМЗ мастером, мастером производственного обучения в ГПТУ №27, сотрудником газеты «Салдинский рабочий»… Писать стихи Дмитрий начал рано. Его первое стихотворение было напечатано в «Тагильском рабочем» в 1928 году. А всего в этой газете было опубликовано более 20 стихов и поэма «Пионерский поход». Наставниками и учителями в творчестве Дмитрия Аржанникова были известные уральские писатели А.П. Бондин и Н.А. Попова. Дмитрий Михайлович пробовал себя в разных жанрах: стихах, прозе, пьесах, зарисовках, поэмах. Однако наиболее ярко он проявился в сатире, в которой, как нигде более, от автора требуется меткость выражений, тонкая наблюдательность, лаконизм высказываний. Басни и зарисовки Аржанникова многие годы печатались в газетах «Салдинский рабочий», «Вечерний Свердловск», «Уральский рабочий», в журнале «Урал», в альманахе «Уральский современник». Участвовал в выпуске сатирических сборников «Сорная трава», «А еще в шляпе…». Об уровне таланта сатирика Дмитрия Аржанникова и актуальности проблем, им озвученных, говорит тот факт, что многие герои его произведений легко узнаваемы и сегодня. В последние годы жизни он тесно сотрудничал с нашим земляком, композитором, доцентом Уральской консерватории, заслуженным деятелем искусств РСФСР Николаем Пузеем. На стихи Аржанникова написаны вокально-симфоническая поэма «Мемориал», «Серебристые облака», «Зоя», «Пожелание» и многие другие произведения.
Дмитрий Михайлович написал три пьесы. В 1965 году в Средне-Уральском книжном издательстве вышла в свет небольшая по формату книжка Д. Аржанникова «Без намеков». В 1972 году народным театральным коллективом «Маяк» на большой сцене ДК 1 Мая была поставлена драма-хроника по пьесе Дмитрия Аржанникова «Ручьи текут в реку». Пьеса была написана по материалам, собранным известным салдинским краеведом В.А. Шепоренко. В ней рассказывалось о трагических событиях, происходивших в поселке Верхняя Салда в годы Гражданской войны в начале ХХ века. Музыку к спектаклю написал уральский композитор Николай Пузей. Дмитрия Михайловича не стало 9 марта 1981 года. Похоронен он на новом кладбище в Верхней Салде.
Ручьи текут в реку
Драма-хроника в двух действиях – пяти картинах.
По материалам краеведа Шепоренко В.А.
Впервые спектакль «Ручьи текут в реки» поставлен на сцене ДК 1 Мая в Верхней Салде в 1972 году и рассказывает о борьбе за Советскую власть в поселке Верхняя Салда в годы Гражданской войны.
Музыкальное оформление спектакля – доцент Уральской консерватории Пузей Н.М. Художник – Усольцев В. Дипломная работа студента Челябинского института культуры Ивина Ю.Н.
В массовых сценах спектакля были заняты учащиеся 4-й группы ГПТУ №27.
Действующие лица и исполнители:
Клюев Н.Г., председатель Волостного совета – Бабкин В.,
Шепоренко А.И., комиссар финансов Волсовета – Лежанкин В., Цехановский А.,
Бабкин А.Г., военный комиссар Волсовета – Пьянков В.,
Рыбаков В.Г., комиссар охраны Волсовета – Моисеев В.,
Нестеров К.Н., бывший поручик царской армии, адъютант командира полка – Никитин Д.,
Пичугов С.Г., командир 1-го Горного полка Красной армии – Бабайлов Б.,
Муравьев И.И., комиссар 1-го Горного полка Красной армии – Олютин Л.,
Сухоросова Т.П., жена партийного секретаря Сухоросова М.П.,
Туранов М., разведчик красных – Татаринов В., Медведев Н.,
Надя Капралова (Петрова), молодой фельдшер – Наговицина Н., Овчарова Г.,
Кешка, мальчик 8 лет, сын пропавшего на Германском фронте солдата – Боровков С.,
Василий, посыльный Волостного Совета,
Павел Петров, молодой рабочий, красноармеец, связной второго батальона – Кондратьев А., Любин В.,
Телефонист полка - Шушаков В.,
Солдат-перебежчик, белогвардеец рядовой Пупков –
Зобнин А.Б.,
Пугачев, белый офицер, комендант заводского поселка –
Борихин В.,
Остапчук, унтер, подручный коменданта – Распопов Е.,
Минин Т.А., заводской подрядчик, председатель следственной комиссии – Перевалов П.,
Талакин К.И., предатель – Черемных В.,
Кулак из Черемшанки, разведчик белых – Тимохов А.,
Первый уполномоченный фронтовиков – Кополухин С.,
Второй уполномоченный фронтовиков – Пермяков В.,
Третий уполномоченный фронтовиков – Емельянов Г.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Верхняя Салда, июнь 1918 года.
Восстание фронтовиков
Клюев, Бабкин, Рыбаков, Шепоренко, Нестеров, Василий, Кешка, Надя, Павел, уполномоченные фронтовиков.
Коридор Волостного Совета на втором этаже каменного здания (ныне ул. Ленина, бывшее здание нарсуда – ред.)
Налево от зрителя пять окон с большими простенками между ними. Вдоль всей левой стены длинные скамьи. Направо четыре двери, пятая в торце коридора. Между дверями тоже скамьи. Стенной телефон с ручным вызовом в среднем простенке.
На переднем плане перила лестницы, ведущей вниз. Лестница служит входом и выходом второго этажа. Окна распахнуты. Виден высокий деревянный забор, ограждающий двор.
Клюев идет по коридору на зрителя. Звонит телефон. Клюев снимает трубку.
Клюев: - Да! Салда слушает. Клюев. Кто говорит? Маслов? Из больницы? Что? Трое ранено. Один умер. Эх, Надя, Надя. Круглой сиротой осталась. Как Невьянск? Около пяти тысяч. Хотели взять Тагил. Отбили. Поступают отряды из многих мест? И из Екатеринбурга. Ждем с победой. (Вешает трубку).
Шепоренко входит из первой от зрителя двери.
Шепоренко: - С кем говорил?
Клюев: - Из Тагила звонил Маслов.
Шепоренко: - Что там?
Клюев: - Под Невьянском наших трое ранено. Маслов доставил их в Тагильскую больницу. Один умер.
Шепоренко: - Кто?
Клюев: - Егор Капралов, отец Нади-фельдшерицы.
Шепоренко: - Как ей скажем?
Клюев: - Надо как-то. Каждый день приходит, справляется об отце, будто чувствует.
Шепоренко: - Что в Невьянске?
Клюев: - Мятежников оказывается, около пяти тысяч вместе с кулаками и автомобилистами. Пытались Тагил захватить. Разоружили взвод охраны на станции, дошли до центра, да нарвались на ружейно-пулеметный огонь красногвардейцев. Еле ноги унесли.
Шепоренко: - Пакостники сволочные!
Кешка вбегает по лестнице босиком, концы штанов мокрые. Порывисто подходит к Клюеву.
Клюев: (ласково) - Ну что, едрена корень?
Кешка: - Дядя Коля, что я узнал-то!
Клюев: - Давай выкладывай.
Кешка: (торопливо) – На Чернушке я рыбу удил. Хорошо клевала, даже червей не хватило. Ну, пошел их рыть в яме, за кустами. Там еще черемуха кругом…
Клюев: - Знаю, дальше.
Кешка: - Ну, рою, а тут подошли двое, сели за кустом. А меня не видят. Один говорит: «Покурим, давай, пока все соберутся»… Подожди, занозу достану…
Садится на пол, вытаскивает занозу из подошвы левой ступни.
Шепоренко: - Ну-ну, скорей.
Кешка: - Вишь какой прыткий. Она вкось залезла…
Достает занозу и говорит: - Закурили… Вот она!
Рассматривает занозу, бросает на пол, встает. - Ну, закурили. Потом тот дяденька говорит: «Весточку получил из какого-то Невьянска. Помощи ждут…» (Клюеву) Дядя Коля, а у тебя пуза красная?
Клюев: - Это почему, едрена корень?
Кешка: - А они говорили: «К ногтю всех краснопузиков. Захватим оружие и айда».
Клюев: (переглянувшись с Шепоренко) – Вот оно что. А еще что говорили?
Кешка: - Про вагоны на станции, и начальника посчитали…
Клюев: - А кто они, которые разговаривали?
Кешка: - А когда пошли от ямы, я поглядел – офицеры эти, с фронта…
Клюев: - Загоров и Бачков.
Шепоренко: - Больше некому.
Кешка: - Я посмотрел, а там на поляне полным-полно этих… Как их?
Клюев: - Фронтовиков.
Кешка: - Ага. Тыщ пять!
Клюев: - Не ври, едрена корень, сотня не больше.
Кешка: - Может, и сотня, только много. Встали вкруг, а я и дал деру сюда. Давно бы здесь был, да кошка дорогу перебежала. Вернулся по другой улице…
Клюев: - Спасибо тебе, Кешка. Большое спасибо. Молодец, одним словом! А теперь – давай домой, и никому ни слова, даже матери. Бегом, чтоб сшумело!
Кешка убегает по лестнице, слышно падение.
Клюев: – Чего там?
Кешка: (с лестницы) – Сшумело. Дядя Коля, штанину порвал…
Шепоренко: (смеясь) – Молодец, пострел!
Клюев: - Еще какой, едрена корень. Тоже сирота. Отец пропал без вести на Германском.
Телефонный звонок. Шепоренко слушает.
Шепоренко: (Клюеву) – Тебя. (Подает трубку).
Клюев: (берет трубку) – Я! Так-так. Понял. Ты там поосторожней. Виду не подавай. Пока (вешает трубку). Все ясно. Фронтовики затевают мятеж. Начальник станции Лытковский для них два вагона приготовил на Невьянск. Миша – дежурный по станции сообщил.
Шепоренко: - Смело, сволочи, берутся.
Клюев: - Берутся, да сорвутся!
Заходит Нестеров, во фронтовой форме поручика царской армии без погон.
Нестеров: - Здравия желаю! (подает руку Клюеву и Шепоренко).
Клюев: - Вовремя пришел, Капитон Никифорович.
Нестеров: - А что такое? Я узнать – будут ли сегодня военные занятия с красноармейцами.
Клюев: - Придется отложить.
Нестеров: - Почему?
Шепоренко: - Фронтовики с Чернушки нас громить идут.
Клюев: - Да, Капитон Никифорович, идут захватить оружие, перебить краснопузиков и податься в Невьянск. На станции их уже вагоны ждут.
Нестеров: - Это правда?
Клюев: - Точно! Вы идите, Капитон Никифорович. Здесь, наверное, жарко будет.
Нестеров: - Нет уж, извините. Я, как-никак, на Германской ротой командовал. Драться немножко научился, и что такое «жарко» не забыл еще. Разрешите мне остаться.
Клюев: - Хорошо (Высовывается в окно, кричит: - Василий!) Будем готовиться к встрече. (Нестерову). Найдем и вам дельце.
Вбегает Василий.
Клюев: - Василий, сколько у тебя конной охраны?
Василий: - Здесь пять. Ночных десять, но они по домам.
Клюев: - Оружие у всех?
Василий: - У всех.
Клюев: Двоих - быстро найти Бабкина и Рыбакова. Очень быстро! С Чернушки идут фронтовики. Нас бить. Остальным – по домам за ночными. Передайте по цепочке – всем немедленно к Совету. Боевая тревога! Действуй, едрена корень!
Василий убегает. Слышен удаляющийся конный топот.
Клюев: - Вот как дела-то повернулись. В собственном доме контра. Хотелось бы без крови, Капитон Никифорович. А?!
Нестеров: - Это как придется. Лучше, конечно, без крови, но… вы, Николай Гаврилович, всегда рассчитывайте на худшее. Дисциплинирует и заставляет подтянуться.
Шепоренко: - Верно, пожалуй. А что, есть у них оружие?
Нестеров: - У некоторых возможно. Имею же я трофейный немецкий пистолет (смотрит в окно). Отсюда, в случае чего, можно из пулемета. Мертвые зоны внизу – гранатами (Клюеву). Пулемет исправен?
Клюев: - Исправен. Сейчас прибежит Бабкин. Ключ у него (подходит к окну, показывает на двор рукой). Они сюда и пожалуют. Считают, что склад оружия все еще там, а мы вчера ночью перетащили его сюда (показывает на дверь в торце коридора).
Нестеров: - Отлично. Подождем.
Клюев: - Я против крови, но если начнут стрельбу, пусть пеняют на себя. Как их ловко обмишурили. Ведь почти все фронтовики из рабочих, свой брат.
Шепоренко: - Первыми не начнем.
Нестеров: - Не начнем, но приготовимся. Был у меня случай на фронте. В мое отсутствие, когда я находился на КП командира полка, немцы с белым флагом пришли в плен сдаваться. Рота высыпала из окопов, а они пулеметным огнем. Много полегло.
Клюев: - Понятно, доверяй, да с оглядкой.
Нестеров: - Это я и хотел сказать. На всякий случай.
По лестнице с шумом вошли Бабкин и Рыбаков.
Клюев: - Вот они, едрена корень, оба два!
Рыбаков: - У заводской проходной стояли. Конный подскакал. (Бабкин торопливо отворяет дверь склада, вытаскивает пулемет).
Клюев: - Это зачем?
Бабкин: - Я им, сволочам, покажу!
Клюев: - Не горячись, Александр Григорьевич! Тащи пулемет обратно.
Бабкин: - Как бы ни так! Они нас бить, а мы извиняться…
Клюев: - Надо будет – ударим, а пока убери эту штуку на склад. Нас тут пять голов, а, значит, и пять умов. Можно дров наломать. Нужна одна голова. Сделаем так: Бабкин и Нестеров займутся складом, чтоб сработал, если понадобится. Рыбаков своими конными. Пусть распахнут ворота во двор, а когда гости войдут, запрут их наглухо. Конных патрулей расставить вдоль забора снаружи. Но пусть пока где-нибудь схоронятся. Подъедут, когда фронтовики заполнят двор. Стрелять только по моей команде. А ну, шевелись, едрена корень, время не ждет!
Бабкин и Нестеров, захватив пулемет, уходят на склад, затворяют дверь. Рыбаков сбегает по лестнице.
Клюев: (Шепоренко) – А мы с тобой, Андрей Иванович, поджидать начнем.
Шепоренко: - Вот ведь, прохвосты, что удумали – на свою власть с ножом.
Клюев: - Офицерам-то не своя она. Из богатых семей.
Шепоренко: - Капитон Никифорович тоже из богатых, да за нас.
Клюев: - Нестеровы не богаты. Сам он на стипендию от земства учился. Подожди, придет пора – многие офицеры пойдут с нами. Дозреют, а пока еще зелены.
Шепоренко: - А ты, в самом деле, против крутых мер? Не мешало бы проучить.
Клюев: - Другие проучат.
Шепоренко: - Кто?
Клюев: - Тагильская чека.
Шепоренко: - Эти проучат.
Клюев: - Вот и я говорю.
Возвращаются Нестеров и Бабкин.
Нестеров: - Готово, Николай Гаврилович.
Бабкин: - И все-таки офицериков я, того, на мушку.
Клюев: (сердито) – Арестую и в чека.
Бабкин: - Ладно, черт с тобой. Здесь не стану, в другом месте сквитаемся.
Клюев: - Самосуда не допустим!
Бабкин: - Будет по закону.
Клюев: - По закону, так по закону. Горяч ты больно, товарищ Бабкин. Побереги огонек-то. Пригодится еще. Вон сколько кругом воронья кружит.
Нестеров: - Спокойней надо.
Бабкин: - Но арестовывать и допрашивать их буду я!
Клюев: - Это можно.
Слышится приближающаяся песня.
«Вдоль да по речке, речке по Казанке
Сизый селезень плывет,
Ой, люли, ой, да люли,
Сизый селезень плывет.
Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому
Добрый молодец идет.
Ой, люли, ой, да люли.
Добрый молодец идет.
Сам он с кудрями, сам он со русыми
Разговаривает.
Ой, люли, ой, да, люли,
Разговаривает.
«Кому мои кудри, кому мои русы
Достанутся расчесать?»
Клюев: - Нам, едрена корень. Маскировочка. Будто ученья проходят. Приготовиться! Мы кудри расчешем…
«Ой, люли, ой, да люли,
Достанутся расчесать?»
Вбегает Рыбаков: - Подходят! Все готово. Конники за церковью. Наблюдают, оцепят. Ворота отворены. Василий захлопнет, как войдут.
Все встают к окнам. Песня смолкает. Со двора слышен топот множества ног, потом глухие удары в стену.
Клюев: - Так и есть. Разбивают дверь склада. Там одна берданка без затвора.
Бабкин: (Клюеву) – Богом прошу, хоть одну очередь!
Клюев: - Не валяй дурака!
Со двора слышны крики: - Спрятали, сволочи! Давай оружие! Давай хлеба! Бей краснопузых! Э-э-э!
Все сливается в один режущий вопль… Вдруг становится тихо.
Рыбаков: - Конную охрану заметили.
Клюев: - А офицеров не видно.
Нестеров: - Я тоже не обнаружил.
Во дворе вновь крики: - Западня! Нас перестреляют! Обманули!
Клюев: (высовываясь в окно, громко) – В чем дело фронтовики?
Голос со двора: - Высылай представителя, говорить будем?
Клюев: (Бабкину) – Выйди, Александр Григорьевич. Пусть выберут уполномоченных. Остальным прикажи – по домам. Да не рычи, спокойно.
Бабкин уходит. При его появлении опять шум и гвалт. Постепенно становится тихо.
Слышен голос Бабкина: - Говорить будем только с уполномоченными. Выбирайте, и пусть они заходят наверх. Остальные разойтись!
Неясные крики, шум, но уже слабее.
Возвращается Бабкин, смахивая пот со лба: - Думал, разорвут вначале. Но хвосты, видать, поприжали. Офицеров среди них нет. Когда шел сюда, спросил одного, ответил – не знает, где они.
Клюев: (наблюдая в окно) – Выбирают самых горластых. Дожили, свои против своих. Уполномоченных придется задержать. Как думаете?
Рыбаков: - Надо.
Шепоренко: - Для острастки.
Клюев: - Идут! Человек десять. Остальные расходятся понемногу. Посадим их сюда (показывает на скамьи по обе стороны коридора у лестницы). Здесь поставим столик (показывает, Шепоренко тащит стол из комнаты, ставит поперек коридора, перегораживает его, оставив узкий проход). В случае нападения… Понятно? (оглядывает всех).
Бабкин: - Ясно, без осечки!
По лестнице друг за другом поднимаются десять уполномоченных.
Клюев: - Оружие на стол!
Первый уполномоченный: - Нет оружия.
Клюев: - Предупреждаю, за применение оружия расстрел на месте! Садитесь (указывает на скамьи, уполномоченные рассаживаются).
Нестеров и Бабкин стоят у двери склада, руки в карманах. Рыбаков и Шепоренко стоят в простенке.
Клюев: (подходя вплотную к столу) – Так, что же вы хотите, господа уполномоченные?
Второй уполномоченный: - Мы не господа. Господин здесь один – офицер Нестеров.
Клюев: - Бывший господин офицер, теперь – красный командир.
Третий уполномоченный: - Быстро приспособился.
Клюев: - Нестеров наш. А вы – господа, раз пошли против Советов вместе с эсерами. Вот вы – приспособились!
Первый уполномоченный: - Хороши Советы, хлеба и того нет.
Клюев: - Хлеба пока нет. Знаете, где достать, скажите. Не знаете? Тогда скажите, где ваши офицеры!
Первый уполномоченный: - Какие офицеры?
Бабкин: - Загоров и Бачков, которые коптили ваши мозги на Чернушке.
Первый уполномоченный: - Не было офицеров.
Рыбаков: - Врешь, сволочь!
Клюев: - Спокойно, спокойно! Офицеры были, а вот сюда пойти струсили.
Шепоренко: - В мутной воде рыбку ловят.
Клюев: - Слабоваты ваши вожди, едрена корень. С такими можно и до ручки дойти.
Второй уполномоченный: - Не заговаривай зубы. Короче!
Клюев: - Можно и короче… Расстрел!
Первый уполномоченный: - Вишь ты, за что?
Клюев: - За нападение на склад оружия, за попытку свергнуть Советскую власть!
Второй уполномоченный: - А чем докажете?
Бабкин: - Ему еще доказывать! Уж не мы ли склад разбили?!
Третий уполномоченный: - Да, ну их к черту! Пошли ребята, с ними каши не сваришь! (поднимается).
Клюев: - Ну-ну, едрена корень. Там вооруженная охрана (кивает на выход).
Первый уполномоченный: (ехидно) - Заманили в ловушку?!
Клюев: - Вы сами залезли, как рыба в морду весной, когда она идет против течения.
Второй уполномоченный: - Слушай, Клюев, кончай волынку. Главное наше требование – хлеб!
Клюев: - Главное ли? Во дворе вы кричали: «Бей краснопузых!» и «Давай оружие!» Для чего? Краснопузых бить?
Третий уполномоченный: - Защищать Советскую власть.
Иронически улыбаются члены Волсовета и даже фронтовики.
Рыбаков: - Советскую власть без комиссаров и коммунистов, как требуют эсеры. Так что ль?
Клюев: - Надо полагать, так. Нет, господа, защищать вы собирались невьянских эсеров, а не Советы. И момент удачный выбрали. Знали, что мы отправили своих на подавление восстания, маловато силенок. Только ничего бы вы не выиграли. Отряды красногвардейцев многих поселков и городов уже подходят к Невьянску. Крышка вашим эсерам, едрена корень. Не вышло у них отвлечь наши силы от Екатеринбурга, чтобы его белые захватили.
Бабкин: - Да чего их агитировать! Арестовать и крышка!
Клюев: - И поагитировать полезно бывает. Арестовать всегда успеем. Вот за офицерами съезди, привези сюда. Побеседуем.
Бабкин, показав Нестерову кивком головы на склад, уходит.
Клюев: - Теперь о хлебе. Мы тоже не белые булочки едим, лепешки из рубленной крапивы.
Рыбаков: - Да липовые листья.
Третий уполномоченный: - Кончай, Клюев, надоело!
Клюев: - А нам разве не надоело смотреть на рабочих-предателей?
Первый уполномоченный: - Мы предатели?!
Шепоренко: - Не мы же!
Клюев: - Уж больно ловко вас опутали эсеры. Наврали с три короба про молочные реки да кисельные берега, а вы и рты разинули. О Ленине слышали?
Второй уполномоченный: - Ну, слышали.
Клюев: - Так неужели революция делалась для того, чтобы мы плясали под эсеровскую дудку!?
Первый уполномоченный: - А что, надо под вашу гармошку?
Клюев: - Обязательно, да повеселее, едрена корень.
Третий уполномоченный: - Ясно.
Рыбаков: - Ясно, да не все. Пусть скажут, знают ли они, что всякие сборища и сходки запрещены?
Клюев: - Знают. Знают и то, что из Нижней Салды тайно ушел в Невьянск отряд эсера Распопова. Это их и подогрело. Так ли?
Первый уполномоченный: - Один черт. Думайте, если нравится.
Клюев: - Тут и думать нечего (Рыбакову). Все знали, Василий Григорьевич, все рассчитали, да просчитались.
Вбегает Бабкин, злой, руки дрожат. Подходит к Клюеву.
Бабкин: Эти гады скрылись.
Клюев: (спокойно) – Ты про господ офицеров? Я так и знал. Струсили… От чека не уйдут.
Фронтовики тревожно переглядываются.
Нестеров: (волнуясь) – Я молчал, не вмешивался, но больше молчать не могу. Поступок, позволенный себе, так называемыми офицерами Загоровым и Бачковым, во всех армиях мира и на всех языках называется подлостью и предательством (фронтовикам). Они вели вас на верную смерть. Один единственный выстрел с вашей стороны, и заработал бы пулемет, полетели гранаты, заговорили винтовки… Правомерная акция, вызванная необходимостью защиты, тем более в военное время. Но даже и без этого выстрела вы могли быть расстреляны на законном основании за разгром оружейного склада и агрессивные намерения против Совета. Скажите спасибо товарищу Клюеву. Это он запретил стрелять…
Движение среди фронтовиков.
Клюев: - Да, предали вас, едрена корень. Выходит: «Куда ни кинь – везде клин». Они в вас не нуждаются и мы пока тоже.
Первый уполномоченный: - Боитесь?
Клюев: - Давай-ка не ершись. Боитесь, говоришь? Боюсь, да не вас, а девушки Нади Капраловой. Она скоро придет справляться об отце, а он убит под Невьянском вашими эсерами.
Рыбаков: - Егор Капралов, из нашего отряда?
Клюев: - Да, умер сегодня в Тагиле после тяжелого ранения. Звонил Маслов.
Бабкин: - Что же ты молчал?
Клюев: - В такой кутерьме разве до того. Да, признаться, и не хотел распалять страсти…
Третий уполномоченный: - Постой, Клюев, у Нади недавно умерла мать. Выходит…
Клюев: - Выходит, круглая сирота.
Третий уполномоченный: - Эх, ты черт! Егор мой друг! (зло фронтовикам). Идите вы к чертовой матери со своими эсерами-офицерами! Я вам не товарищ! (срывает с головы фуражку, мнет ее и идет на выход).
Рыбаков: - Постой, постой! Куда?
Клюев: - Проводи его, Василий Григорьевич. Пусть идет. Он понял.
Уполномоченный и Рыбаков уходят.
Клюев: (фронтовикам) – Мы вас временно задержим. Хлеб, думаю, достанем. Не обделим и вас, разумеется, если чека разрешит.
Первый уполномоченный: - Нас в чека?
Клюев: - В Тагильскую чека. Будь вы сынки кулаков да торговцев, до чека не дошло бы…
Второй уполномоченный: - Что они лучше нас?
Клюев: - Нет, просто вы были бы расстреляны именем революции здесь во дворе… Спускайтесь по одному вниз (показывает на лестницу). Бежать не советую, охране приказано стрелять. Давайте, давайте.
Фронтовики, что-то ворча, спускаются по лестнице.
Клюев: - Свои люди, рабочие, а веры им нет.
Шепоренко: - Не все фронтовики были на Чернушке, эти пошли. Двоит у них, значит.
Бабкин: - Вот чека вправит им мозги-то!
Нестеров: - Разберутся, невиновных отпустят.
Клюев: - Конечно.
Вернувшийся Рыбаков: - Уселись, как миленькие.
Клюев: - Бузили?
Рыбаков: - Испугались, не до этого. По всему видно, стыдно им. Тот, которого я выводил, сказал: «Извиняйте, запутались…»
Клюев: (Бабкину) – А ты хотел из пулемета (смотрит на карманные с цепочкой часы). Скоро придет Надя. Кто ей скажет об отце?
Рыбаков: - Не могу?
Бабкин: - Уволь уж.
Шепоренко: - Пасую.
Нестеров: - Я тем более.
Клюев: (с укоризной) – Хороши. Значит, мне?
Бабкин: - Тебе, Гаврилыч.
Клюев: - Я уведу ее отсюда, и дорогой… Фу, ты, господи, вот задача! (Бабкину). Ты, Александр Григорьевич, сообщи в чека. Пусть их завтра увезут, да и начальника станции захватят. Вот вагоны-то и пригодились… Надо, я думаю, ввести военное положение в поселке.
Рыбаков: - У меня проект постановления написан.
Клюев: - На то ты и комиссар охраны. Вечером утвердим.
Входят Надя и Кешка с перевязанной левой ступней, в больничных больших тапочках.
Надя: - Здравствуйте.
Клюев: - Здравствуй, Надя (на Кешку). А этот откуда взялся, едрена корен?
Надя: - Шел сюда. И я тоже. Вижу, хромает. Повела в больницу, нагноение. Сделала перевязку, а чтобы ранка не засорилась, тапочки надела.
Кешка: (Клюеву) – Ты почему говоришь – «едрена корень»?
Клюев: - Привычка, Кешка.
Кешка: - А это не матершинное?
Клюев: - Нет.
Кешка: - Тогда валяй (общий смех).
Клюев: (Шепоренко) – Где-то у нас, Андрей Иванович, детская обувь была. Для самых бедных учеников. Посмотри там, дай Кешке.
Шепоренко: (Кешке) – Пойдем! (уходят в последнюю дверь, за ними Бабкин, Рыбаков и Нестеров).
Надя: - Что слышно, Николай Гаврилович?
Клюев: - Пока ничего, Надюша.
Надя: - Тяжело на сердце что-то, неспроста это.
Клюев: - Теперь всем тяжело.
Надя: - Может быть, но мне особенно. Здесь у вас недавно какой-то шум был, и конные вдоль забора стояли?
Клюев: - Фронтовики собранье проводили. Разошлись по домам…
Вбегает Кешка с сапожками подмышкой: (восторженно) – Новые!
Надя: - Вот и носи.
Кешка: - Спасибо, дядя Коля.
Клюев: - На здоровье. Советской власти говори спасибо, Кешка (пробует сапоги на ощупь). Надолго хватит. В школу в них пойдешь.
Кешка: (заговорчески) – Эти, с Чернушки, я видел, шли и песни пели…
Клюев: - Убежали, разве мы дадимся.
Кешка: - Так им и надо.
Надя: - О чем это вы?
Клюев: - Секрет у нас один (Наде). Голова что-то разболелась. Пойду, пройдусь по улице. Если по пути, пойдем.
Надя: - Идемте (берет Кешку за руку).
Заходит Павел: - Здравствуйте, Николай Гаврилович! Надю ищу, сказали в больнице, сюда пошла. Ну и я…
Клюев: - Понятно, понятно, Павлуша. Я тоже за своей бегал.
Надя: (смущенно) – Скажете уж…
Клюев: - Без этого нельзя. Все бегают.
Кешка: - Я не бегаю.
Клюев: - Подожди, еще побежишь.
Кешка: - Не, не люблю девок. Нюнят (все смеются).
Клюев: (Павлу) – Мы немного побродим по улице. Идем с нами (уходят).
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Октябрь 1918 года.
Уходят последними
Клюев, Рыбаков, Шепоренко, Бабкин, Нестеров, Пичугов, Муравьев, Кешка, Надя, Павел, Минин, кулак-разведчик, красногвардеец.
Кабинет Клюева в Волостном правлении. Прямо от зрителя два окна на улицу. В простенке стол со стулом за ним. На столе телефон. Налево и направо по одной двери. Вдоль стен стулья и табуреты. Вход и выход – левая дверь. За столом сидит Кешка. Оттопырив губы, рисует.
Кешка: - Как дам штыком, взревешь! (рассматривает, склоняя голову направо и налево). А этого саблей, раз, и нет головы, едрена корень! Раз, раз, раз! (машет рукой, будто рубит).
Входит Клюев: - Видать, беляков гробишь?
Кешка: - Ага, смотри – валяются.
Клюев: (подходит, смотрит) – Ловко ты их, только и они нас лупят.
Кешка: (удивленно) – Лупят?!
Клюев: - Всыпают, аж тошно.
Кешка: - Немножко тошно-то ничего.
Клюев: - Шибко тошно, Кешка. Со всех сторон лезут. Уж Тагил заняли.
Кешка: - Мели больше.
Клюев: - И сюда скоро пожалуют.
Кешка: - А я как, а вы как?
Клюев: - Поживем, увидим – как. Освободи-ка стул, посижу маленько. Часа два, не больше, соснуть пришлось (Кешка встает, Клюев садится).
Кешка: - Дядя Коля, дай бумаги рисовать.
Клюев: (дает немного листов) – Бери, и дуй домой. Мешать будешь. (Кешка мается, не уходит). Что еще?
Кешка: - Карандаш бы красный, звезды рисовать.
Клюев: - Хорош друг, а где я его возьму? (вспомнил). Постой-ка, Капитон Никифорович мишени для стрельбы рисовал. Кажется, были цветные (ищет в столе, достает). На (Кешка берет).
Кешка: - У, какой большой! Спасибочко (уходит).
Входит Шепоренко: - Художник тебя тут ждал, Кешка.
Клюев: - Уже побеседовали. Как с подготовкой к эвакуации?
Шепоренко: - Заканчиваю, почти все упаковано.
Клюев: - Смотри, не оставляй ни одной бумажки. Машинку не забудь. И телефон заберем (показывает на аппарат).
Телефонный звонок, Клюев слушает: - Да! Клюев, председатель Совета. Командир полка со станции? Здравствуйте. Едете к нам? Хорошо, будем ждать (кладет трубку).
Входят Бабкин и Рыбаков.
Бабкин: - Из Черемшанки прибежали шестеро красногвардейцев. Там белые…
Клюев: - Давай старшого.
Рыбаков, приоткрыв дверь, делает знак рукой. Входит красногвардеец с винтовкой.
Красногвардеец: - Здравствуйте.
Клюев: - Здорово, едрена корень. Драпанули, говоришь?
Красногвардеец: - Они ж, сволочи, с пулеметом, а у нас по одному патрону.
Клюев: - Когда это было?
Красногвардеец: - Сегодня на рассвете. По дороге из Краснополья ворвались и сразу застрочили. Мы на окраине деревни были. Кулак один, я его запомнил, показал штаб наш в школе. Всех захватили, повели и в лесу зарубили шашками. Шесть человек… И Секерина – учителя, и парнишку даже, Мишку Пантелеева, разведчика нашего. Ему пятнадцать лет было…
Бабкин: - Белые в деревне?
Красногвардеец: - Не знаю, может, ушли. Разведку делали только…
Рыбаков: - Кто сказал, что их зарубили?
Красногвардеец: - Девчонка одна, Зойка Климова, догнала нас. Тоже в Салду спешила.
Клюев: - Берем вас в отряд. (Бабкину). Как комиссар?
Бабкин: (красногвардейцу) – Скажи своим, пойдете с нами.
Красногвардеец уходит.
Клюев: - Выходит, и в наших краях порохом запахло, едрена корень.
Входит Нестеров: - Здравствуйте, товарищи! На станцию прибыли воинские эшелоны.
Клюев: - Звонил командир полка, едет к нам (Нестерову). Как ваш отряд?
Нестеров: - К выходу готов. Сто десять человек.
Бабкин: - И еще шесть из Черемшанки, все с винтовками. От белых ушли…
Нестеров: (удивленно) – Белые в деревне?
Клюев: - Да, рядом.
Нестеров: - Так надо ж боевой заслон!
Клюев: - Пока полк здесь, не сунутся. Выставим на ночь. Пора, видно, и нам убираться. Хочешь, не хочешь…
Рыбаков: - А богатеи радехоньки. Улыбочки прячут. Ждут не дождутся своих избавителей. Подарки, наверно, готовят. Ко мне вчера подкатывался Минин, заводской подрядчик. Дальней родней приходится. Не проговорюсь ли, куда девались главные детали локомобилей.
Шепоренко: - Прокатный цех пустить намереваются.
Бабин: - Подарочек избавителям!
Клюев: - Черта с два! Машинист Сухоросов умело сработал, никакая собака не сыщет. Надо еще завалить входные пути завода, крушенье на них устроить.
Рыбаков: - Завтра перед уходом сделаем.
Входят Пичугов и Муравьев. Все встают.
Пичугов: - Здравствуйте, товарищи! (Клюеву, сдержанно). Вы, Клюев? (Клюев кивает). А эти товарищи?
Клюев: - Члены Совета и командир отряда.
Пичугов: (рекомендуется) – Командир 1-го Горного полка Пичугов (на Муравьева). Комиссар полка Муравьев (здороваются за руку с каждым).
Клюев: - Прошу садиться.
Все садятся. Пичугов к столу Клюева, Муравьев на табурет рядом с остальными.
Пичугов: - Разрешите, товарищ Клюев?
Клюев: - Ждем.
Пичугов: - Получается, что мы последними отходим с этого участка фронта. Слишком велико неравенство сил. Эшелоны полка на вашей станции. Продвижение по железной дороге исключено. Белые заняли Тагил, но и они не смогут продвигаться в нашу сторону. Мы уничтожили железнодорожные мосты. Выход один: двигаться пешим порядком на Кушву. Прошу выделить проводников и подводы.
Клюев: - Белые рядом, товарищ Пичугов, в деревне Черемшанка. Из Краснополья пришли…
Пичугов: - Когда появились и сколько их?
Клюев: - Сегодня утром, а сколько - не знаем.
Пичугов: (развертывая планшетную сумку, смотрит на карту, тоже делает и Муравьев) – Так-так, ясно… (Клюеву). Как соединиться с дежурным по станции? У меня там помощник…
Клюев: (звонит). Телефонная? Дайте вокзал! (подает Пичугову трубку).
Пичугов: - Кто? Говорит Пичугов. Немедленно два взвода с четырьмя пулеметами на усиление боевого охранения Южного и Юго-Восточного секторов! Усилить наблюдение! Враг в деревне Черемшанка. Как разгрузка? Закончили? Хорошо. До меня не взрывать (кладет трубку). Не думаю, чтобы там оказались значительные силы. Но, как говорят, береженого - бог бережет.
Муравьев: - Правильно, не стоит играть в жмурки.
Пичугов: (Нестерову) – Вы, я вижу, бывший офицер? Какое бы вы приняли решение в создавшейся обстановке?
Нестеров: (встает) - Пошел бы тоже на Кушву, предварительно взорвав эшелон с боеприпасами, здание вокзала и стрелки подъездных путей. Но я сделал бы еще одно…
Пичугов: - Интересно, что же?
Нестеров: - Выделил бы семьдесят винтовок с патронами, разумеется, для отряда красногвардейцев, который завтра пойдет следом за вами на пополнение Красной Армии. Винтовки у меня бы нашлись, как имеются и у вас, если учесть потери в людском составе и возможные трофеи. Мы имеем только сорок винтовок… (все смеются).
Пичугов: - Хитер! (комиссару) Выделим, комиссар? Плохо у них, как видишь. До Кушвы, а там вольются в наш полк.
Муравьев: - Как откажешь такому дипломату.
Клюев: - Капитон Никифорович – командир этого отряда.
Пичугов: - Понятно (Нестерову). Коротенько о себе, если не возражаете.
Нестеров: - Бывший поручик. Ротный командир, а позднее – начальник связи 107-го пехотного полка. Контужен, травлен газами. Находился на излечении в госпитале. Гражданская специальность – учитель. Родился здесь. Беспартийный.
Пичугов: (переглянувшись с Муравьевым) Сомнений в правоте революции нет? Спрашиваю потому, что имею на вас виды.
Клюев: - Нет, и не будет. Мы отправили на пополнение Красной Армии пять отрядов. Это шестой. Всего около восьмисот человек. Военное обучение возглавлял товарищ Нестеров. Во время Невьянского восстания эсеров, к которому пытались примкнуть фронтовики, сразу и безоговорочно встал на нашу сторону.
Муравьев: - Интересно, что с теми фронтовиками?
Клюев: - Тагильская чека освободила их, уже защищают Советскую власть. Офицеры Загоров и Байков – расстреляны. Сообщник их, начальник станции, тоже.
Пичугов: - Я намерен рекомендовать вас, товарищ Нестеров, на должность адъютанта нашего полка. Ваше мнение?
Нестеров: - Солдат подчиняется приказу.
Пичугов: - Договорились. Жду в Кушве. Садитесь (Нестеров садится, Клюеву). Так что с нашей просьбой.
Клюев: (Бабкину) – Давай, военный комиссар.
Бабкин: (встает) – Сколько подвод надо?
Пичугов: - Минимум двадцать, и проводников. Направить на станцию.
Бабкин: - Попробую наскрести. Когда выслать подводы?
Пичугов: - Чем скорей, тем лучше.
Клюев: - Не подкачай, Александр Григорьевич.
Бабкин уходит.
Клюев: - Эти пятьдесят верст до Кушвы растянутся на трое суток. Стояло ненастье. Река Тагил вышла из берегов, брод еле виден. Дорожка, что надо, едрена корень, - болота, слякоть, грязь. Э, да где наша не пропадала!
Муравьев: - Вижу, не унываете. И правильно. Распустить нюни в такой обстановке, считай, гроб. А обстановка тяжелая, грозная. Белые заняли Егоршино, Алапаевск, Тагил, Невьянск, Екатеринбург. Завтра-послезавтра будут здесь, в Салде. Но успехи врага временны. Мы отступаем, чтобы наступать. На станции Алапаевск молодая женщина крикнула нам: «Драпаете, шкуры спасаете, бросили нас!» И многие так думают, к сожалению. Не сразу Москва строилась. Идет накопление сил, перестройка армии, создаются крупные соединения. Смею заверить, страшен будет наш удар по всей внутренней и внешней контрреволюционной сволочи. А пока, революция в опасности. Партия, Ленин, прямо говорят: «Или мы победим, или Советской власти не быть». Середины нет: или, или!..
Клюев: - Довели до кипения, значит!
Муравьев (не поняв) – Что до кипения?
Клюев: - Ярость народную.
Муравьев: (Пичугову) – Вот, Степан Герасимович, одно слово и все ясно. Именно довести до кипения… Теперь о вас. Понимаю, трудно вам, товарищи, тяжело. Семьи остаются. С собой не возьмешь. Коменданты белых и следственные комиссии пощады не дают. Даже стариков и детей расстреливают, если заподозрят в сочувствии красным. Жен тащат на допросы. Будут бить, пытать. Пусть наберутся мужества. Другого совета нет. Скажите об этом. И еще скажите, что Красная Армия победит. Мы скоро вернемся. Я хотел бы поговорить с коммунистами, товарищ Клюев…
Клюев: - Уже поговорили. Здесь их трое, остальные на фронте.
Муравьев: - И секретарь?
Клюев: - Моряк Балтийского флота Константин Рыбаков ушел с первым отрядом.
Пичугов: (Клюеву) – Вы идете завтра, почему бы не с нами, под защитой полка?
Клюев: - У нас так намечено. Завтра будет митинг. Пусть видят все, что мы уходим, как хозяева, которые скоро вернутся. Кое-кого подбодрим, а некоторых и припугнуть надо, чтоб не очень-то прислужничали, не лезли в холуи.
Муравьев: - Есть и противники нашей власти?
Клюев: - Где их нет. Время такое. Иной не знает, к кому и примкнуть.
Пичугов: - А те, кто наверняка переметнется к белым, имеются?
Клюев: - Думаем, да. Затаились. Правда, в сентябре Тагильская чека особо ярых отправила на тот свет. Тридцать три человека, но…
Пичугов: - Понятно. Что ж, завтра, так завтра. На ночь обязательно выставляйте усиленное боевое охранение на Черемшанку, чем черт не шутит…
Муравьев: - Белым ничего не оставляйте.
Шепоренко: - Ничего, кроме ненависти.
Клюев: - Завод закрыт. Главные цеха, мартеновский и прокатный, выведены из строя. Продукция вывезена на станцию Левшино.
Пичугов: - Это по-нашему (вставая). Ну, что ж, товарищи, выходит, до встречи в Кушве. Помните, вы войдете в состав нашего полка отдельной ротой Салдинцев. Отступление временное. Соберемся с силами, переформируемся, и от беляков только перья полетят! (Нестерову) Вы, товарищ Нестеров, сейчас же со мной за винтовками (Нестеров поднимается, остальные тоже). Да, и еще: услышите взрывы на станции, знайте – это мы… Всего доброго! Жду подводы и проводников.
Прощается со всеми за руку. Уходят. Остальные за ними. Сцена некоторое время пуста.
Возвращается Клюев. Подходит к окну, смотрит на улицу. Потом звонит по телефону.
Клюев: - Телефонная, больницу. Кто? Здравствуй, Василий Михайлович. Клюев. Не узнал, едрена корень? Что выделяешь нам из медикаментов? Надя уже получила? Смотри, не обижай. Ну, будь здоров! (кладет трубку, снова подходит к окну, стоит спиной к зрителю).
В дверях появляется Минин: - Разреши, Николай Гаврилович?
Клюев: (поворачиваясь) – Двери для всех отворены, заходи.
Минин: (заходит) – Доброго здоровьица.
Клюев: - Здравствуй, садись (Минин садится на табурет у стены, Клюев стоит у окна).
Минин: - Зашел узнать о сыне своем, Николае. Как мобилизовали, ни одного письма.
Клюев: - Жив, здоров Николай твой. Недавно получил весточку от ребят. Только, кто же его мобилизовал, если он добровольно пошел?
Минин: - Как добровольно, а повестка?
Клюев: - Это по его просьбе.
Минин: - Отца, значит, обманул. Вот сукин сын!
Клюев: - Как же это ты о своей жене-то, Тимофей Артемьевич?
Минин: - Тьфу, ввел во грех!
Клюев: - Неувязка у вас. Сын за красных, а отец…
Минин: - …За белых, так что ли?
Клюев: - Похоже, так. Не выпытывал бы, куда детали локомобилей девались, едрена корень.
Минин: - Так ведь жить-то надо. Вы уходите, завод остановили.
Клюев: - Вернемся, пустим завод.
Минин: - Ну, когда-то это еще будет.
Клюев: - Вижу, не веришь, потому и ждешь белых.
Минин: - А если жду, - расстреляешь?
Клюев: - Этим занимается чека, но, между прочим, она зря никого не расстреляла.
Минин: - Как никого, а священников нашей церкви, отцов Петра и Алексея, царство им небесное.
Клюев: - Попы были связаны с невьянскими эсерами. Сознался на допросе Загоров.
Минин: - Не верится что-то.
Клюев: - Твое дело, только мне врать не к чему. А что, Тимофей Артемьевич, пошел бы ты с нами? Сын-то у нас…
Минин: - Извини, нет. И возраст не тот, и…
Клюев: - Сомневаешься в нашей победе?
Минин: - Да, хоть как наказывай, не верю.
Клюев: - А за что тебя наказывать? Ты нам вреда не сделал. Просто интересно твое мнение.
Минин: - Силенок у вас маловато, оружия. Ученья вон проводили с деревянными ружьями…
Клюев: - Петр Великий тоже вначале из деревянных пушек пареным горохом палил, да Россию на ноги поставил.
Минин: - То Петр!
Клюев: - А это рабочие! Они посильнее Петра будут. Миллионы!
Минин: - Посильней, послабей – увидим. Там регулярные армии, генералы, оружия вдоволь. Нет, извини, маленьким вашим ручейкам не прорвать плотину такую.
Клюев: - Рассуждаешь вроде правильно, да не совсем. Дед мне рассказывал. Давно это было. После затяжного ненастья Исинский пруд переполнился. Старая демидовская плотина не выдержала, и вода хлынула. Много бед натворила…
Минин: - К чему это?
Клюев: - Пруд переполнился почему? Ручьи да речушки воды натащили в реку, а она в пруд. Плотина же старая, так что все дело в ручьях, выходит. А ты говоришь…
Минин: - Ловок ты, Николай Гаврилович, образованье бы тебе.
Клюев: - Не мешало бы. Четыре класса маловато… И еще на прощанье. Мы уходим. Белые тебя, как подрядчика, наверняка в следственную комиссию назначат. Запомни, крепко запомни. За пытки и издевательства над нашими семьями спросим. Со всех спросим. Вот уж тут, если будешь виноват, расстреляем. Передай это всем своим. А вернемся мы обязательно. Обязательно и скоро. Плотина-то старая!..
Минин: - Темна вода во облацех.
Клюев: - Посветлеет! Будь здоров. Ко мне сейчас люди придут. Передавать ли привет Николаю, вдруг свидимся?
Минин: (подумав) – Кланяйся. Ну, я пошел, прощевай (уходит).
Входит Нестеров с наганом в кобуре на поясе. Под пазухой объемистая коробка, которую он ставит на подоконник.
Нестеров: - Привез оружие.
Клюев: - Полностью?
Нестеров: - Как обещал. Ребята уже получают. Полк, оказывается, сильно потрепан в боях. Выбыла почти половина состава, но дисциплина, по-моему, твердая (показывает на коробку). И вот еще…
Шум в коридоре. Рыбаков и Бабкин вводят человека с уздой за плечами, сзади идет красногвардеец.
Рыбаков: (на введенного) – На наши секреты нарвался, а патрули его сюда привели. Из Черемшанки шел. Лошадь, говорит, ищет. Купил ее здесь, в Салде. Думает, ушла к старому хозяину.
Клюев: - У кого купил коня?
Кулак: - Фамилию забыл, дом укажу.
Красногвардеец: - Врет! Я узнал его. Он привел белых в штаб…
Кулак пытается выхватить наган из кармана штанов. Бабкин выкручивает ему руку, Рыбаков помогает. Наган падает на пол. Рыбаков хватает его, отскочив, направляет на кулака. Нестеров тоже выхватывает наган.
Бабкин: - За услуги беляки наган подарили? Дурак, а еще в разведку пошел!
С силой отталкивает его к стене.
Клюев: (кулаку) – Белые в деревне?
Кулак: - Не знаю.
Клюев: - Не знаешь или не скажешь?
Кулак: - Ничего не знаю.
Клюев: (красногвардейцу) – Решайте с ним сами.
Рыбаков отворяет дверь. Выходит в коридор, держа наган наготове. Бабкин кивком головы показывает кулаку на дверь. Тот выходит. За ним Нестеров с наганом в руке, Бабкин, Клюев и красногвардеец. Сцена пуста.
Возвращаются Клюев, Бабкин, Нестеров, Рыбаков и Шепоренко.
Клюев: - Каков наглец.
Бабкин: - Полагал, мы лыком шиты.
Нестеров: (берет с подоконника коробку, ставит на стол) – А ну, подходи, получай личное оружие!
Клюев: - Ты что, едрена корень, откуда?
Нестеров: - От Пичугова. Берите, и по коробке патронов (подходят, берут, пристегивают кобуры к поясам, коробки с патронами прячут в карманы).
Клюев: - Молодец, Пичугов! Знает, когда надо подбодрить. Как вам, а мне веселее стало (оживление, улыбки).
Уходят, остается один Клюев. Входят Надя и Павел с винтовкой.
Клюев: - Ого, наш фельдшер уже с охраной?!
Павел: - Только что получил, иду в боевое охранение.
Надя: - Задержалась, простите. С фельдшером Душиным воевать пришлось. Йоду и марли мало выделил. Там, говорит, получите. Я сказала, если он предполагает, что там йод из речки черпают, а марля прямо на деревьях развешена, тогда другое дело…
Клюев: (смеясь) – Ну и что?
Надя: - Поругался маленько, но дал.
Клюев: - Он ругается для вежливости. Знаю его…
В коридоре слышен плач.
Надя: - Кешка плачет.
Клюев: - Почему?
Надя: - С нами просится.
Клюев выбегает из комнаты. Вводит Кешку, поддерживая за плечи.
Клюев: - Ты что, едрена корень, разве мужики ревут?
Кешка: (трет глаза кулаками) – Да… Сам корень… Заревешь, раз не берете. Возьми, дядя Коля, хорошо воевать буду…
Клюев: - Ну, вот что, мы тебя возьмем, только не теперь. Подожди маленько. Когда все выясним, пришлю за тобой Надю и Павла. Согласен?
Кешка: (всхлипывая) – Ага (Наде). А ты скорей приезжай (Павлу) И ты тоже… Нечего целоваться.
Надя: (смущенно) – Кешка!
Клюев: (смеется) – Валяй, Кешка, валяй! Целуются, говоришь?
Кешка: - Ага, думают, я не вижу.
Клюев: - Так это ж хорошо!
Кешка: - Скажешь тоже.
Клюев: - Очень хорошо. Уверены, значит, что победят (достает из стола бумагу и синий карандаш, подает Кешке). Это тебе. Красным рисуй звезды, а этим – небо.
Кешка: - Синее – без тучей?
Клюев: (смеясь) – Лучше без тучей. Ну, идемте (направляются к двери, Кешка и Надя выходят, Клюев задерживает Павла). Кешка верно сказал?
Павел: - Правильно. Надя уже в моем доме.
Клюев: - Молодец, это по нашенски. Только свадьбу вот некогда справлять, едрена корень.
Павел: - Вернемся и справим.
Клюев: - После победы, значит?
Павел: - После, когда будет без тучей… (смеются, слышны сильные взрывы со стороны станции).
Клюев: - Пошел полк. Завтра мы…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Зима 1918 года.
Черная година
Пугачев, Минин, Остапчук, Кешка, Сухоросова, предатель, Туранов.
Комната в штабе военного коменданта белых Пугачева. Прямо перед зрителем два окна. В левом углу стол с телефоном.
Несколько стульев возле стен. Направо и налево по одной двери.
Правая дверь служит входом и выходом. В верхнем правом углу икона, перед которой теплится свечка. Пугачев сидит за столом лицом к зрителю, просматривая какие-то бумаги.
Входит Минин, крестится на икону.
Минин: - Здравствуйте, господин комендант!
Пугачев кивает, предлагая рукой сесть. Минин садится на ближний стул.
Минин: (показывая на икону) – Все теплится свечка?
Пугачев: - Унтер Остапчук соблюдает, любит благолепие.
Минин: - Это тот, что порол арестованных баб?
Пугачев: - Он самый.
Минин: - Похвально, похвально-с.
Пугачев: (отрываясь от бумаг) – Слушаю вас, господин председатель.
Минин: - Дополнительные списочки большевиков и добровольцев (подает).
Пугачев: (просматривая) – Господи, как расплодилась эта зараза.
Минин: - Так точно-с.
Пугачев: - Пустой звук, мираж. Здесь-то их нет.
Минин: - А семьи?
Пугачев: - Что толку. Мы с вами арестовали семьдесят баб. Пороли, допытывались, конфисковали имущество, скот. Одна даже бросилась в речку и утонула. Забыл фамилию…
Минин: - Анна Маслова, жена красного командира.
Пугачев: - Вот, вот. А что изменилось? Сколько раз водили на допросы (смотрит бумагу). Углову, Исакову, Майданских, Чачину, Рыбакову, Мосееву и других. Ни черта не знают эти бабенки. Единственно, что хорошо, так это страх, который мы внушили.
Минин: - А власть не уважают, нет почтенья.
Пугачев: - В этом вся соль. Пороть будем, конечно, но мне нужны большевики, живые большевики для превращения в трупы, господин председатель! Вы меня поняли?
Минин: - Как не понять, да где ж их взять-то?
Пугачев: - А вы уверены, что все красные ушли?
Минин: - Я знал бы, если кто укрывался.
Пугачев: - Ой, ли?! Послушайте-ка, что мне пишет начальство. По секрету, разумеется (Минин кивает, Пугачев находит одну из бумаг, просматривает). Изложу коротенько. По сообщению начальника контрразведки подполковника Белоцерковского, в Екатеринбурге арестовано три тысячи человек по подозрению в большевизме. Рабочие города идут за большевиками. В их среде ведется подпольным путем и находит себе благодатную почву агитация коммунистов, замечается соорганизованность. Усилились диверсии на железных дорогах. Арестованы подпольщики Розенберг, Мельников, Коковин, Чирухин, Еремин. Последний работал в штабе нашей Сибирской армии и передавал сведения Советскому командованию. Седьмой Чехословацкий полк и второй Казанский разложены большевиками. Семьсот чешских солдат арестованы. Ну-с, что скажете, господин председатель? И это только то, что вскрыто, выявлено… Предписано усилить вылавливание большевистских агентов, арестовывать всех подозрительных.
Минин: - Пора, давно пора (ухмыляется). Пишите! Рыбаков Григорий Алексеевич. Красный из красных. Старик, а туда же: землю – крестьянам, заводы – рабочим. Еще сватом приходится мне (Пугачев записывает).
Пугачев: - Ах, сволочь, ах, иуда.
Минин: - Четыре его сына сражаются против нас. Один, Константин, моряк Балфлота, партийный секретарь здесь, в поселке.
Пугачев: - Не жалко свата-то?
Минин: - Жить мешают эти Рыбаковы.
Пугачев: - Молодец, хвалю за усердие! Еще кто?
Минин: - Добротин Иван – неуважительно отзывается о новой власти. Назвал коменданта пьяницей и бабником.
Пугачев: (удивленно) – Меня?
Минин: - А что, ошибся?
Пугачев: - Нет, пожалуй. Но власть от бога, потому… Еще?
Минин: - Пичугин, Ильичев, Свинин, Егоров, Долбилов. Остальных потом, никуда не уйдут (Пугачев записывает).
Пугачев: - Так вот, ваша задача выявлять подпольщиков и подозрительных. Сколько у вас осведомителей?
Минин: - В каждом квартале.
Пугачев: - Надежные ли?
Минин: - Вполне. Головой ручаюсь.
Пугачев: - За каждого подпольщика – пуд белой муки.
Минин: - Ясно.
Пугачев: - Искать надо.
Минин: - Постараемся.
Пугачев: - В нашем деле каждая зацепка важна. Комендант Алапаевска раскопал интересную новость. Думаю, она нам пригодится, может и на след наведет. До Рыбакова кто был здесь партийный секретарь?
Минин: - Кажется, машинист Сухоросов.
Пугачев: - Правильно. Этот Сухоросов летом прошлого года ездил в Алапаевск, где находились представители Екатеринбургского комитета партии Толмачев и Израилович, и привез их сюда. Для чего? Наверное, не в гости. Предполагаю, чтобы укрепить ряды красных. И об оружии наверняка речь была.
Минин: - Но Сухоросова нет.
Пугачев: - Зато жена здесь. На первых допросах мы об этом не ведали. Я послал за ней. Допросим вместе.
Минин: - Она может и не знать.
Пугачев: - Попытка не пытка, а вдруг…
Минин: - Удобно ли мне? Дело деликатное, вашего ума.
Пугачев: - Одной веревочкой виты. Ум хорошо, а два лучше. Демократия…
Минин: - Диктатура лучше-с.
Пугачев: - Лучше, конечно, но следственные комиссии помогают… (спохватившись). Да вот еще. Под Пермью несколько ваших земляков попало в плен. И опять, разумеется, все мобилизованные. Не охота под расстрел-то. Пошлите члена вашей комиссии Наташу Ташкину. Прошлый раз она выявила добровольцев и большевиков. Расстреляли. Особенно был опасен большевик Чачин. Его на подпольной работе оставили.
Минин: - Это ее бывший жених, отказался только…
Пугачев: - Вот как. Так не забудьте.
Минин: - Пошлю. Нельзя ли взглянуть на списочек пленных?
Пугачев: - Пожалуйста (подает).
Минин: (просматривая) – Н-да, и мой сын попался.
Пугачев: (берет список, читает) – Минин Николай Тимофеевич.
Минин: - Он.
Пугачев: - Мобилизован?
Минин: - Не попал же добровольно.
Пугачев: - Наташа его знает?
Минин: - Не скажу. Может и не знать.
Пугачев: - Черкну записку в Пермь (быстро пишет на бланке, ставит печать, подает Минину). Отдайте Наташе вместе со списком.
Минин: - Спасибо.
Пугачев: - Сколько ваших расстреляли красные?
Минин: - Тридцать три человека.
Пугачев: - Не успокоюсь, пока не доведу счет один к трем.
Минин: - За каждого нашего трое красных?
Пугачев: - Совершенно верно. Военным обучением красных ведал какой-то здешний офицер?
Минин: - Бывший поручик Нестеров. Он и повел последний отряд.
Пугачев: - А что, если его семью прощупать?
Минин: - Не советую. Сам Нестеров холост, а его отец – главный механик завода, весьма благонадежный. Управитель ценит его и заступится. Верховный не погладит вас по головке. Вам несдобровать.
Пугачев: (недовольно) – Черт с ним. Однако дали вы тут маху вместе с управителем. Почему позволили большевикам вывести главные цеха из строя. Куда глядели?!
Минин: - Я не разговаривал бы с вами теперь, если б глядел, куда вам надо. Да, да! Пуля, и нету! А что касается цехов, так их все равно не пустить. Рабочие ушли с красными…
Пугачев: - Ладно. Пусть управитель сам расхлебывает (лезет в стол, достает бутылку, две стопки, наливает). Давайте, господин председатель. Мне что-то не здоровится со вчерашнего (выпивают).
Минин: - Вы осторожней по ночам, еще стукнут из-за угла.
Пугачев: - Побоятся.
Минин: - Молите бога, что большевики мобилизовали молодежь.
Пугачев: - А то бы?
Минин: - Не помогли бы вам ни наган, ни солдаты.
Пугачев: - Пугаете?
Минин: - Что вы! Однажды здесь утопили полицейского и не смогли дознаться кто. Начальник уездной полиции две недели вел следствие, уехал ни с чем.
Пугачев: - А за себя не боитесь?
Минин: - Сегодня утром получил цидульку. В щель ворот засунули (подает Пугачеву бумажку).
Пугачев: (читает) – «Сволочь, своих гробишь. Берегись!» Это уже интересно. Кто, по-вашему?
Минин: - Ума не приложу.
Пугачев: (достает из стола наган, подает Минину) – Возьмите, стрелять умеете?
Минин: - Справлюсь (прячет наган в карман штанов).
Пугачев: - Выходит, не струсят.
Минин: - Похоже.
Пугачев: - Ничего. Кусачая собака мало лает.
Минин: - Дай-то бог.
Пугачев: - Так за что же утопили-то полицейского?
Минин: - Было это еще в 1912 году. Покойный частенько ко мне заходил. Иногда выпивали помаленьку. Понял я, что нащупал он подпольную партийную организацию. Обещал сцапать.
Пугачев: - И сцапал, царство ему небесное.
Минин: - И почище было. Как-то летом 1913 года служащие в воскресенье на пикник выехали. Управитель с ними, полиция. Веселимся, пляшем. А когда сели ужинать на лужайке – у каждого под тарелкой листовка: долой царя и прочее. И ведь никого посторонних, все свои, благонадежные.
Пугачев: - Замяли?
Минин: - Управитель запретил распространяться.
Пугачев: - Правильно (наливает еще, выпивает). А не могут подпольщики скрываться в окрестных лесах?
Минин: - Нет. Проверено. Надежные люди на двадцать верст кругом все обшарили. Никого.
Пугачев: - Похвально.
Минин: - Мне своя шкура тоже дорога.
Входят Остапчук и Кешка.
Остапчук: - Мальчишка к вам, ваше благородие, я велел дежурному пропустить (уходит).
Кешка: - Здравствуйте. Кто главный пугач?
Пугачев: - Здорово, парень. Главный – я. Только не пугач, а Пугачев. Господин Пугачев. Кто сказал, что я пугач?!
Кешка: - Какая-то бабушка на улице.
Пугачев: - Запомни: господин Пугачев.
Кешка: - А красные говорят – товарищ…
Пугачев: - У них товарищи, а у нас – господа. Как тебя звать-то?
Кешка: - Кешка.
Пугачев: - Имя нашенское, сибирское. Только вид у тебя уж очень затрапезный, и тощий ты больно.
Кешка: - Так нечего есть-то, последнюю картошку с мамкой доедаем, и одежды нет.
Пугачев: - Сапожки, правда, ничего.
Кешка: - Дядя Коля дал. Велел сказывать спасибо Советской власти.
Пугачев: (Минину) – Какой дядя Коля?
Минин: - Председатель Совета Клюев, ушел с последним отрядом.
Пугачев: - Значит, с красными дружбу вел?
Кешка: - Ага.
Пугачев: - А теперь дружи с нами.
Кешка: - Мне бы бумаги, рисовать.
Минин: - А в школе разве не дают?
Кешка: - Дают, да мало и бумага серая.
Пугачев: - Сначала скажи, что ты рисуешь?
Кешка: - Войну. Как белых красные лупят.
Пугачев: (удивленно) – Вот это фрукт! Откуда ты взял, что нас лупят?! Мы лупим красных!
Кешка: - Может и вы, да у меня все про красных.
Пугачев: - Теперь наоборот рисуй – белые лупят.
Кешка: - Так на чем рисовать.
Пугачев: (подает несколько листов бумаги) – Бери. Нарисуешь, покажешь.
Кешка: - Ладно. Спасибо. Мне бы еще карандаш, как шерсть у коровы, лошадей рисовать.
Минин: - Как буренка?
Кешка: - Нет, как гнедко.
Пугачев: (смеясь) – Вот это наговорились. Ну, Кешка, развеселил. На коричневый карандаш! (подает). Остапчук!
Входит Остапчук: - Чего изволите, ваше благородие?
Пугачев: - Вели накормить мальчонку, да посади в канцелярию, пусть рисует. Я потом позову.
Остапчук: - Темнеет, ваше благородие, забоится он домой идти.
Пугачев: - Проводим.
Остапчук и Кешка уходят.
Минин: - Это вы хорошо придумали накормить. И карандаш, и бумагу дали. Об этом узнают в школе, в поселке разнесется.
Пугачев: - Этого я и хочу. Умеем и мы добро делать. Поощряем таланты. Может это второй Верещагин, сукин сын.
Минин: - Кто таков?
Пугачев: - Художник Верещагин был, баталист.
Минин: - А…
Пугачев: - Занятный парнишка.
Минин: - Сын рабочего, отец пропал без вести на Германском.
Пугачев: - Не красный?
Минин: (презрительно) – Какое там!
Пугачев: - Не люблю рабочих, смутьяны… И дети такие же будут.
Минин: - Яблоко от яблони недалеко падает.
Входит Остапчук: - Привели Сухоросову, ваше благородие.
Пугачев: - Давай сюда ее (Минину). Попробуем поиграть, авось клюнет.
Остапчук выходит и сразу же возвращается вместе с Сухоросовой, потом удаляется.
Сухоросова: - Здравствуйте.
Пугачев: - Здравствуй. Садись (Сухоросова садится на краешек стула у двери). Назови-ка себя, красавица.
Сухоросова: - Сухоросова Таисья Петровна.
Пугачев: - Не догадываешься, зачем тебя пригласили?
Сухоросова: - Догадываюсь, только о муже я ничего не знаю.
Пугачев: - А ты вспомни. Дело в том, что под Пермью многие красные попали к нам в плен. Твой муж, Сухоросов Михаил Павлович, тоже. Известно, что он большевик и бывший партийный вожак. С таким разговор один – к стенке. Расстрел, значит. Но мы выручим его, если ты ответишь на наши вопросы.
Сухоросова: - Но я ничего не знаю, ей богу!
Пугачев: - Не торопись отрицать, я тебя еще ни о чем и не спросил. Скажи, зачем твой муж прошлым летом ездил в Алапаевск и кого он оттуда привез? Быстро! Ну!
Сухоросова: - Я даже не знаю, ездил ли он.
Пугачев: - Врешь, ей богу, врешь! Тогда, я отвечу. Он привез инструкторов Екатеринбургского комитета партии, неких Толмачева и Израиловича. В вашем доме провели собрание большевиков, а вот о чем говорили, расскажешь ты…
Сухоросова: - Господи, царица небесная, ничего-то я не знаю! На сенокосе с ребятишками была (на Минина). Вон и Тимофей Артемьевич знает, что все мы в это время страдуем.
Минин: - Ничего я не знаю, бабонька. Ничего-с…
Сухоросова: - Где тебе знать, за тебя другие страдуют.
Пугачев: - Молчать, стерва! Значит, ничего не знаешь. А кто стоял на охране этого сборища, кто на ставни окна закрывал? Вспоминай, вспоминай, плохо будет!
Сухоросова: (твердо) – Я не знаю ни чего!
Пугачев: - Хороша женушка! Муженька ждет расстрел, а она и пальцем не хочет пошевелить в его защиту. Что ж, прощайся с мужем (пишет на бланке, подписывается, ставит печать, читает вслух). «Военному коменданту города Перми. Сообщаю, что взятый в плен Сухоросов Михаил Павлович, житель поселка В.Салда, является большевиком и добровольцем Красной армии, к которому применимы соответствующие санкции». Все, красавица, амба! Может, скажешь чего-нибудь, а?
Сухоросова: - Что говорить, если я не знаю.
Пугачев: - И все-таки я не верю тебе! (вскакивает). Так исполосую, что на твоей паршивой шкуре живого места не останется! (подбегает к ней, ударяет кулаком под подбородок). Авансом, сучья кровь!
Сухоросова: (падает, но сразу встает) – Молодец, комендант! Ловко воюешь с беззащитными женщинами. Подожди, отольются тебе наши слезы. Послушаем, что ты запоешь, когда вернутся красные…
Пугачев: - Что-о-о! Стращать, подлюка!? Остапчук!
Входит Остапчук.
Пугачев: - Брось в подвал! Двадцать пять плетей! Потом, еще побеседуем…
Остапчук выводит Сухоросову. Пугачев нервно ходит по комнате, садится за стол, наливает стопки, выпивает с Мининым.
Пугачев: - Вот и поговори с такой сволочью.
Минин: - Трудно-с.
Пугачев: - Не возьму в толк, или не знает, или не хочет сказать.
Минин: - Что была на покосе – это точно, но в то ли время.
Пугачев: - Я попрошу вас проверить, Тимофей Артемьевич.
Минин: - Будет сделано.
Пугачев: - Если соврала – расстреляю.
Минин: - Само собою разумеется. Только навряд ли соврала. Слишком напугали вы ее мнимым пленением и расстрелом. Ловко придумали!
Пугачев: (самодовольно) – Варит, значит, головушка.
Минин: - Варит-с.
Пугачев: - Удивительное дело, все они верят, что красные вернутся. И другие женщины на допросах кричат тоже самое.
Минин: - Верят.
Пугачев: - А вы?
Минин: - Не согласился бы возглавлять следственную комиссию, если бы верил. Не обижайтесь, господин комендант, на мои слова, но следствие надо вести несколько не так, в интересах дела.
Пугачев: - А как же?
Минин: - Деликатней, тоньше, что ли. Слишком быстро применяете вы мордобой и оскорбления. Не подумайте, что я против, нет. Бить надо, да только тогда, когда ясно видно, что человек врет. Я тоже ни черта не скажу, если меня будут бить.
Пугачев: - Нет, не могу не бить. Буду бить! Как взгляну в эти морды, в глаза с огнем ненависти – рука сжимается в кулак, а потом тянется к плетке или нагану. Так-то, господин председатель…
Минин: - Считайте, что я ничего не говорил. Дай бог вам встретиться с настоящим противником.
Пугачев: - И настоящий расколется.
Минин: - Дай бог.
Звонит церковный колокол. Минин и Пугачев крестятся на икону. Минин истово, Пугачев наспех.
Минин: - Вот и на вечернюю молитву благовестят. Не пора ли отдохнуть.
Входят Остапчук и предатель.
Остапчук: - К вам, ваше благородие.
Пугачев: - В чем дело?
Предатель: (низко кланяясь) – Здравия желаю, ваше благородие!
Пугачев: - Здравствуй. Говори, что у тебя.
Предатель: - Красные, ваше благородие, двое.
Пугачев: - Где?
Предатель: - Здесь в поселке, за рекой.
Пугачев: - Говори толком. Ну!
Предатель: - Перед сумерками забрались в овин у реки. Я видел из окна, мой дом как раз на овин глядит. Как стемнело, вылезли и, озираючись, пошли в поселок. Один Туранов Михаил, с красными ушел, к нему в дом и направились. Другого не узнал. Разведчики это, ваше благородие, не иначе.
Пугачев: - А не дезертиры?
Предатель: - Не должно. Туранов сильно за красных стоял, и буржуев матом крыл.
Пугачев: - Молодец. Ты на чем приехал?
Предатель: - На лошади верхом.
Пугачев: - Покажешь нашим. Остапчук, конную группу туда! Ты старший. Брать живыми. Убьете – расстреляю! Бегом, ну! (Остапчук и предатель выбегают, Пугачев потирает руки.) Видать, покрупней рыбешка попалась!
Минин: - Не сорвалась бы.
Пугачев: - Не сорвется. Вы знаете этого Туранова?
Минин: - Знаю. Рабочий завода. Молодой еще.
Пугачев: - Каков он?
Минин: - Ершистый, дерзкий, никого не боится. Может и в ухо дать.
Пугачев: - Большевик?
Минин: - Нет. С красными ушел по мобилизации.
Пугачев: - Мог он дезертировать?
Минин: - Как знать, навряд ли.
Пугачев: - Хорошо бы завербовать его к нам на службу.
Минин: - Попытайтесь. Я бы возглавил поимку, будучи на вашем месте. Тут опыт нужен.
Пугачев: - Справятся.
Минин: - Это верно. Пуля, она не разбирает…
Пугачев: - Вот именно. Впрочем, вы о чем?
Минин: - Опасно, говорю, а вы нам нужны. Не дай бог…
Пугачев: - Как фамилия этого деда?
Минин: - Талакин. Пустобрех. Нашим-вашим.
Пугачев: - По мне хорош даже трижды растреклятый человечишка, помогай лишь вылавливать красных.
Минин: - Такой предаст и вас, и меня. Жалит, как змея, без разбору. Есть подозрение в его причастности к смерти некоторых наших. Нашептал красным…
Пугачев: - Что ж вы молчали? Шлепнем… (подходит к столу, записывает). Талакин. Как имя?
Минин: - Кирилл Иевлевич.
Пугачев: - Восьмой кандидат на тот свет.
Минин: - Скоро приведут еще двоих.
Пугачев: - Это еще надвое. Вдруг согласятся работать на нас.
Минин: - Хорошо бы. Но вам придется попридержать горячку. Туранова нахрапом не возьмешь.
Пугачев: - Значит, взнуздать себя?
Минин: - И покрепче натянуть поводья…
Пугачев: - Вот что я надумал. С Турановым побеседуете сначала вы. А я послушаю, понаблюдаю через замочную скважину из этой комнаты (показывает на левую дверь). Присмотрюсь, прикину, как и что. Посадите сюда (показывает на стул возле стола), чтобы я мог видеть. За этих красных можно повышение получить, карьеру сделать, удайся мне перетянуть их на нашу сторону. Только бы не сорваться. Помоги, господи (крестится на икону).
Минин: - Готов удружить вам, давайте попробуем. А если Туранов пошлет меня ко всем чертям?
Пугачев: - Терпите во имя идеи. Ударит, и то терпите. В крайнем случае, выручу (смотрит на карманные часы). Что-то, однако, задерживаются? Далеко это?
Минин: - Десять минут ходу пешком. Они ж на конях.
Пугачев: - Кто-то идет.
Входит Остапчук прихрамывая: - Привели, ваше благородие.
Пугачев: - Обоих?
Остапчук: - Одного, второй скрылся.
Пугачев: - Растяпы!
Остапчук: - Это не бабы.
Пугачев: - Молчать! (бегает по комнате) Говори!
Остапчук: - Стали ломиться в ворота. Они выскочили во двор и сразу из наганов уложили наших…
Пугачев: - Сколько?
Остапчук: - Троих.
Пугачев: - Тьфу!
Минин: - Царство им небесное.
Пугачев: (покосясь на Минина) – Дальше!
Остапчук: - Один, которого поймали, метнулся в огород, а там на снегу его хорошо видно. Стрелял, да я прошил ему правую руку. Наган куда-то бросил. Не найти, много снегу и метель…
Пугачев: - Не тяни!
Остапчук: - Второй как-то на улицу попал. Заколол этого, что донес. Он дожидался за поленницей. Метнулся туда, а в нас граната, потом другая…
Пугачев: - Задело кого?
Остапчук: - Упали, пронесло. Трех коней, правда, осколками насмерть, а четырех ранило. Сюда, какой-то, мужичек подвез, иначе пешком бы топали.
Пугачев: - Дальше!
Остапчук: - Ускакал на лошади доносчика. Она за поленницей стояла, не задело…
Пугачев: - Кто ускакал?
Остапчук: - Второй
Пугачев: - Стреляли?
Остапчук: - Он сразу в переулок, а догонять не на чем.
Пугачев: - Дураки! Ждали третьей гранаты, лежали! Искать!
Остапчук: - Я не могу, ногу задело.
Пугачев: (Минину) – Полюбуйтесь на этих идиотов! На фронт! Всех на фронт! Там научат воевать! Да, скрылся, пожалуй. Все равно пошарим (Остапчуку). Пусть ищут! Направь резервную группу. Струсили, сволочи! Давай краснопузого.
Остапчук выходит. Пугачев, кивнув Минину, скрывается за левой дверью.
Возвращается Остапчук, ведет связанного Туранова, правая его рука висит плетью.
Минин: (доброжелательно) – Садись Туранов (показывает на стул).
Туранов: (садится) – Перед тобой стоять не намерен. Что-то плохо встречаете. Думал, сам комендант пожалует, а вижу холуя.
Минин: - Господин комендант занят, скоро будет здесь.
Туранов: - Ищет второго? Напрасный труд.
Минин: - Что скажешь, Михаил, зачем пожаловал домой?
Туранов: - Сначала прикажи развязать меня, не укушу.
Минин: - Остапчук!
Входит Остапчук, сильно хромая.
Минин: - Развяжи.
Остапчук развязывает руки Туранова и уходит.
Туранов: (разглядывая комнату) – И икона со свечкой. Уютно. Здесь и порете народ?
Минин: - Ты на мой вопрос не ответил.
Туранов: - А я и не намерен отвечать.
Минин: - Остепенился бы. Господин комендант простит, если будешь покладистей.
Туранов: - Комендант пусть сам прощается передо мной за все, что натворил здесь.
Минин: - Об этом скажешь сам ему.
Туранов: - Тебя не заставлю.
Минин: - Трудно с тобой, на свою голову ершишься.
Туранов: - Знаешь что, Минин, иди-ка ты… Разговор ни с тобой, ни с комендантом не выйдет, пока не перевяжете руку.
Минин: - Перевяжем, только скажи, не ты подбросил мне угрожающую записку?
Туранов: - Слава богу, нашлись таки смельчаки! Нет, не я. У меня в почете пуля.
Минин: - Как поживает мой Николай, вы ведь в одном полку?
Туранов: - Велел продырявить тебе голову за измену и предательство.
Минин: - Врешь! Николай в плену.
Туранов: - Был в плену, да сбежал вместе с тремя солдатами белых. Начальника караула пришлось на тот свет откомандировать.
Минин: - Врешь, врешь мерзавец!
Туранов: - Мерзавец – ты, а я – боец Красной армии! Ну, где твоя перевязка?!
Минин: - Остапчук!
Входит Остапчук, еще сильнее хромая.
Минин: - Уведи на перевязку.
Остапчук и Туранов выходят. Появляется Пугачев из-за левой двери, садится за свой стол.
Пугачев: - Крепкий орешек! Дезертиром и не пахнет.
Минин: - Вот и поговори с таким.
Пугачев: - Попробуем.
Минин: - Я бы его ликвидировал, меньше одним свидетелем.
Пугачев: - Сомневаетесь в незыблемости нашей власти?
Минин: - На всякий случай.
Пугачев: - Расстрелять всегда можно, а вот переманить на свою сторону…
Минин: - Согласится и обманет?
Пугачев: - Согласится - вернется в полк, будет передавать сведения командованию. А обманет, наши вмиг разделаются. В корпусе генерала Пепеляева крепкая разведка. Н-да. Что ж это сынок-то ваш, видать, к красным льнет?
Минин: - Да врет он!
Пугачев: (многозначительно) – Проверим, проверим-с.
Минин: - Интересно, зачем они пожаловали?
Пугачев: - Ознакомиться с обстановкой в нашем тылу, выявить настроения, дислокацию войск. Не с нами же чаевничать. Липовые документы бесспорно уничтожил. Но главный тот, второй. Туранов, по-моему, подстраховка, для отвлечения внимания. И, надо сказать, провели они нас ловко! Второй наверняка ушел. Плохо, что этот шум с поимкой подбодрит кое-кого здесь. Шутка ли, красные за Пермью, а разведчики их сюда забрались.
Минин: - Это да, это так.
Входит Остапчук: - Перевязку сделали. И мне тоже.
Пугачев: - Не проверял Сухоросову?
Остапчук: - Смотрел. Без памяти лежит.
Пугачев: - Очухается, добавьте. Давай Туранова.
Остапчук вводит Туранова, выходит.
Пугачев: - Туранов Михаил - красный разведчик?
Туранов: - Он самый.
Пугачев: - Садись.
Туранов садится на тот же стул. Смотрит в глаза Пугачеву: - Видать, комендант Пугачев – палач и зверь?
Пугачев: - Что-то уж больно красочно.
Туранов: - Сам себя раскрасил.
Пугачев: (резко) – Хватит! Поговорим о деле. Откуда прибыл, с какой целью и кто второй?
Туранов: - Прибыл от красных. Чем занимается разведка, ты знаешь не хуже меня. Что касается второго, то зачем он тебе. Ушел и все. Не видать тебе его, как своих ушей.
Пугачев: - Что еще добавишь?
Туранов: - Жалею, погорячился, не оставил последний патрон для себя.
Пугачев: - Мы эту ошибку можем исправить.
Туранов: - Не сомневаюсь. Странно, почему ты не бьешь меня, не истязаешь. Ты, говорят, большой мастер.
Пугачев: - Дойдет и до этого, не торопись. Поедем дальше…
Входит Остапчук: - Ваше благородие, мальчишка домой просится.
Пугачев: - Тфу ты, я и забыл! Кстати напомнил. Веди его сюда (Остапчук уходит). Ты утверждаешь, Туранов, что Пугачев палач и зверь. Не напраслину ли возводишь? Я, между прочим, помогаю населению, кормлю детей, забочусь о талантах. Благодетель, можно сказать. Вот и сейчас у меня в канцелярии сидит парнишка, будущий художник. Накормили его, приласкали, бумаги дали. Рисует, как белые красных лупят…
Входят Остапчук и Кешка. Остапчук уходит.
Пугачев: - Вот он, второй Верещагин! (на Туранова). Покажи дяденьке картинку (Кешка подает). Что, Кешка, хорошо накормили тебя?
Кешка: - Не. Дали один черный сухарь, сказали: «Больше нету». Завтра велели приходить…
Пугачев: - Что-то не то, разберемся (Туранову). Ну, как, нравится?
Туранов: - Молодец мальчонка, все правильно. Ловко белые лупят жен красногвардейцев!
Пугачев подбегает к Туранову, выхватывает рисунок, рассматривает, мнет в руке. Берет Кешку за руку, ведет к левой двери. Отворив, толкает его в комнату, резко захлопывает, повертывая ключ в замке.
Пугачев: (Туранову) – Так-с, поехали дальше.
Туранов: - Поехали благодетель. Устами ребенка глаголет истина. Так, Минин?
Пугачев: - Молчать, красная сволочь!
Туранов: - Здесь только две сволочи – белые, правда, - ты и иудушка Минин…
Пугачев: - Молчи, гадина! (подбегает к Туранову, замахивается кулаком).
Туранов: - Вот оно, прорвало (Пугачев опускает руку, отходит, садится за стол).
Пугачев: - А если мировую?
Туранов: - Что предлагаешь?
Пугачев: - Жизнь! В твои годы не охота умирать, не так ли?
Туранов: - Ни какого желания, но придется.
Пугачев: - Не обязательно. Зависит от тебя. Какие силы у красных и когда готовится наступление?
Туранов: - Сил много, пополнение поступает нормально, даже и за счет ваших солдат. Недавно целый полк во главе с командиром перешел на нашу сторону. Некоторых офицеров солдаты постреляли, правда.
Пугачев: - Врешь, гад!
Туранов: - Спокойно, комендант. Потом сам узнаешь. А наступление будет обязательно. Полетят от вас перья! Вот о сроке мне командование не доложило, жалею…
Пугачев: - Издеваешься?! Берегись! (хватает плеть, но, подумав, кладет ее на стол). Застрелил бы я тебя здесь же, да думаю, договоримся…
Туранов: - Не играй в прятки!
Пугачев: - Переходи на нашу сторону…
Туранов: - Ты, что - беленой объелся?! Эх, комендант, плохо знаешь рабочих парней. И где тебе?! Ты ведь из сибирских богатеев. Окопался в тылу, с бабами воюешь. Пьянствуешь да развратничаешь. Рабочий для тебя – скотина, низкая тварь. Только ошибаешься. Не будет рабочий предателем, как Минин, или тот старик, что на меня донес. Между прочим, он и на Минина доносил, да Клюев не поверил.
Минин: - Я так и предполагал.
Туранов: - Клюев мог тебя в чека передать. Зря не передал. Ошибся…
На улице слышится выстрел
Пугачев: - Что за чертовщина!? Остапчук!
Входит Остапчук.
Пугачев: - Узнай, кто стрелял!
Туранов: - …Так что кончай, комендант, сразу.
Пугачев: - Даю ночь на раздумье. Не согласишься, пеняй на себя.
Туранов: - Не соглашусь. Осечка у тебя будет…
Входит Остапчук: - Мальца нашего убили. На улице у стены лежит…
Пугачев: - Кто посмел!?
Остапчук: - Он полез в форточку из комнаты через двойные рамы, а мимо проходил милиционер. Ну, и выстрелил. Не разобрал впотьмах, думал, покушение какое.
Туранов: - Комендант, прикажи отвести меня. Больше ни на один вопрос не отвечу.
Пугачев: (Остопчуку) – Запри его в одиночку.
Туранов, выходя из комнаты: - Вот ведь дела-то, Остапчук. Бары целехоньки, а мы друг друга продырявили.
Пугачев: - Молчать, скотина!
Остапчук уводит Туранова.
Минин: - Неприятность какая с мальчишкой.
Пугачев: - Ничего, замнем.
Окна вдруг освещаются заревом пожара. Слышен отдаленный набат.
Минин: - Что это?
Пугачев: - Похоже, пожар.
Минин: - Где-то в наших краях (подходит к окну).
Телефонный звонок, Пугачев берет трубку: (Минину) Ваш дом горит (оба быстро выбегают).
ЧАСТЬ 4
Картина первая
Конец мая 1919 года.
Прорыв и начало освобождения Урала от Колчака
Пичугов, Нестеров, телефонист, солдат-перебежчик, Надя, Павел.
Командный пункт командира полка в старой лесной, врытой в землю избушке. Видны торцы толстых бревен наката, покрытого дерном, с растущей на ней сосенкой. Под навесом, образованным этим же накатом, распахнутая дверь в избушку, стол на врытых ножках с двумя скамьями. В правом углу на ящике четыре полевых телефона. На заднем плане за избушкой, уходящая вверх скала, заросшая кустарником.
Пичугов и Нестеров сидят за столом, изучают карту.
Пичугов: - Они ударят здесь, в полосе обороны третьего батальона (показывает). Слева и справа не позволяет местность.
Нестеров: - Вы уверены, что именно сегодня?
Пичугов: - Да, по данным разведки (телефонный звонок, Пичугов подходит, слушает) Первый. Второй? Отлично. Готовь маневр (кладет трубку, показывая на телефоны). Пригодились трофейные. Служили вашим, теперь нашим (подсаживается к столу).
Нестеров: - Предлагаю усилить батальон…
Пичугов: - Нет, наоборот…
Нестеров: - Не понимаю.
Пичугов: (смотрит на карту) – Мы поможем им прорвать нашу оборону, отойдем немножко, заманим…
Нестеров: - И будем разгромлены.
Пичугов: - И будем вместе с кавполком разрезать, окружать и уничтожать.
Нестеров: - А, что этот полк с неба свалился?
Пичугов: - Уже свалился, Капитон Никифорович. Сегодня ночью, прямо на правый фланг, в лес. Белые о нем не знают.
Нестеров: - Так это ж здорово!
Пичугов: - Возможны, конечно, и осложнения, но основная идея замысла командования верна. Звонил комиссар. Он связался с командиром кавполка, он же возглавит маневр отхода батальона.
Нестеров: - Направьте меня.
Пичугов: - Вы нужнее здесь.
Входят Надя и телефонист, который садится к аппаратам.
Надя: - Товарищ командир полка, разрешите обратиться к адъютанту?
Пичугов: - Разрешаю.
Надя: (Нестерову) – Товарищ адъютант, принесла пополнение штабной аптечки (подает). Йод, вата, марля. Вы так быстро уехали на КП, что я не успела…
Нестеров: - Благодарю.
Пичугов: - Спасибо за заботу, товарищ военфельдшер. Готовы к приему раненых?
Надя: - Готовы, товарищ командир полка.
Пичугов: - Хорошо, но учтите, я запрещаю вам ползать по передовой. В каждой роте выделены санитары… Скоро увидите свою Салду.
Надя: (обрадовано) – Ну, уж?! Соскучились люди по работе, по дому соскучились…
Пичугов: - Мы сейчас, как боевая пружина на взводе, чуть нажми на спусковой крючок – и… Сковырнем с позиций, покатятся до Сибири беляки.
Надя: - Разрешите идти?
Пичугов: - Идите и помните мой приказ (Надя уходит).
Нестеров: - Очень смелая. Запретил правильно, всегда лезет в самое пекло.
Пичугов: Сердце доброе, людей любит и жалеет.
Входит Павел: - Связной второго батальона, красноармеец Петров. Прибыл по распоряжению комбата.
Пичугов: - А, что хмурый, связным не хочется?
Павел: - Комбат чуть не силой заставил. Я на передовую хотел.
Пичугов: - Он знает, кого назначить. И вовсе не второстепенное это дело. От связного иногда зависит жизнь сотен людей, судьба боя.
Павел: - Понятно, товарищ командир полка. Разрешите доложить, я не один. Привел девять перебежчиков от белых. Комбат приказал. Все в нашу форму переодеты. И офицер, их старший, тоже в нашей форме был. Они его убили. Хотели к вам с оружием идти, да наши так им накостыляли, что одного даже водой пришлось отливать. Вот их ракетница (подает).
Пичугов: - А какое оружие?
Павел: - Винтовки, гранаты, пулемет «Кольт».
Пичугов: - Занятно (телефонный звонок, телефонист подает Пичугову трубку). Да, Первый. Здравствуй, здравствуй, Василий Тимофеевич! Здесь. Только что. Я с ними еще не беседовал,
сейчас займусь. Как там у тебя? Тихо? Будь начеку! Что, что?! Имели задание штаб взорвать!? Меня и комиссара убить!? Ну и ну. Пока (подает телефонисту трубку, Павлу). А зачем же с оружием-то хотели идти?
Павел: - А чтобы показать, что не с пустыми руками перебежали, похвастать.
Пичугов: - Приведи старшего (Павел уходит).
Нестеров: - До авантюр дошло.
Пичугов: - Неважны, видать, у них делишки, если на такое решились.
Входит Павел, ведет перебежчика.
Пичугов: (Павлу) – Можешь идти (Павел, козырнув, уходит).
Перебежчик: (вытягиваясь, руку под козырек) – Здравия желаю, ваше благородие – товарищ командир!
Пичугов: - Здравствуй. Кто таков?
Перебежчик: - Добровольно перешедший к вам рядовой Пупков!
Пичугов: - Корпус генерала Пепеляева?
Перебежчик: - Так точно. Первая рота, второй батальон Иртышского полка.
Пичугов: - Что ж ты меня благородием-то?
Перебежчик: - По привычке. У нас товарищей нет, все благородия. В морду дают…
Пичугов: - Сколько вас?
Перебежчик: - Со мной девять. Десятый был из «ваших благородиев», да ослаб, пришлось в болотце оставить…
Пичугов: - Кто он по званию?
Перебежчик: - Поручик из штаба полка. Набирал добровольцев, мы согласились.
Пичугов: - Цель вашей группы?
Перебежчик: - Взорвать штаб, убить командира полка и комиссара.
Пичугов: - Как сообщили бы своим о выполнении задания?
Перебежчик: - Три красные ракеты.
Пичугов: - Что это дает?
Перебежчик: - У вас паника, а наши – наступать.
Пичугов: - А если задание не выполнено, тоже наступать?
Перебежчик: - Не могу знать.
Пичугов: - Вы шли на верную смерть.
Перебежчик: - Офицер, да, а мы, чтобы сдаться.
Пичугов: - Почему сдались?
Перебежчик: - А ты бы посмотрел, что они вытворяют в деревнях. Богатеев не трогают, а нашего брата, сиволапых, и порют, и вешают. Девкам и бабам проходу нет. Не по пути нам с благородиями…
Пичугов: - Все по доброй воле перешли?
Перебежчик: - Все.
Пичугов: - Фамилию убитого вами офицера не знаешь?
Перебежчик: - Как не знать, знаю. Поручик Волков, он из графьев. Подбадривал всех: «За орденами ребята идете!» Бумаги его у меня (достает из-под гимнастерки, подает). Он свою сумку забыл оставить. Вернул меня, чтобы я передал командиру батальона.
Пичугов: (просматривая бумаги) – За это спасибо (передает Нестерову, тот изучает, разложив на столе).
Перебежчик: - Рад стараться. Ваше бла… Тьфу, товарищ командир!
Пичугов: - Я такое же благородие, как и ты, пахал и сеял.
Перебежчик: - Врешь, наверное, извиняюсь…
Пичугов: (смеясь) – Разве по роже не видно?
Перебежчик: - У иного рожа свинская, а барин.
Пичугов: - Бывает. Как же вы намеревались уничтожить штаб?
Перебежчик: - Забросать гранатами, а потом, из пулемета.
Нестеров: (Пичугову) – Разрешите вопрос, товарищ командир? (перебежчику). Где стоят резервы вашего полка?
Перебежчик: - Батальон в селе Покровском. Сейчас его придвинули к фронту.
Нестеров: - Куда?
Перебежчик: - Какой-то квадрат В, нерусское название. Случайно услышал от командира батальона. Он ротному сказал в траншее: «Подбросим в квадрат В»…
Нестеров: - Когда придвинули резервы?
Перебежчик: - Вчера. От взводного слышал.
Пичугов: - Не врешь?
Перебежчик: - Как перед богом!
Пичугов: - Срок вашего возвращения?
Перебежчик: - Сегодня ночью.
Пичугов: - Ясно. Что же с вами делать?
Перебежчик: - Не уж то в расход?
Пичугов: - До этого не дойдет. Уничтожаем только врагов. Недавно чека ликвидировала зачинщиков кулацкого восстания в одном селе.
Перебежчик: - Врали, значит, нам офицеры. В каждом селе будто бы у нас восстают. Советы не любят. Ненадежные тылы, дескать, потому легко красных разобьем. А, выходит, в одном только.
Пичугов: - Солдаты верят?
Перебежчик: - Верили вначале, а теперь задумываются. Дошло до нас, будто крестьянину и земля, и машины. Середняк от кулака отделяется. Правда, это? Не обман?
Пичугов: - Правда. Решение восьмого Съезда партии (достает из сумки газету, подает). Возьми, прочти своим. Это «Правда». Тут все обсказано.
Перебежчик: - Благодарствуем. Куда нам деваться теперь?
Пичугов: - Оружие пока не доверим. Кривить не буду. Временно направим в тыл, там посмотрим. Ты ничего не сказал о наступлении белых. Когда оно начнется?
Перебежчик: - Офицер, который нас вел, проговорился, сегодня ждут какого-то генерала.
Пичугов: - Ценные сведения, с генералом веселее удирать. Иди к своим. Вас отведут в деревню, накормят, отдохнете.
Перебежчик: - За недоверие нет обиды, принял хорошо. Понадобимся – позовешь. Будьте здоровы (уходит и сразу возвращается). Товарищ командир, я забыл сказать, что красные ракеты можно пустить и во время боя. Офицер объяснял, в суматохе легче громить штаб…
Пичугов: - Спасибо Пупков. Можешь идти (перебежчик уходит, Нестерову). Начнут атаку - дадим эти ракеты. Пусть идут уверенно, смело. У красных паника, управление боем дезорганизовано… Молодец этот Пупков (походит к Нестерову).
Нестеров: - Довольно точные наброски нашей обороны. Основные удары по стыкам полков – первому и третьему батальонам. Резервы Иртышского полка, по-моему, здесь (показывает на карте). Квадрат В, слева овраг, поросший леском. Это место их сосредоточения. Только здесь, дальше открытая местность.
Пичугов: - Согласен. Достанут наши пушки?
Нестеров: - Должны.
Пичугов: - Сообщим на батарею (подходит к телефону, телефонист звонит, подает трубку). Иван Александрович? Первый. Возьми-ка карту. Есть? Найди квадрат В. Нашел? Лесок видишь? Там резервы противника. Достаешь? Хорошо, надеемся. Нет, нет, не сейчас, жди команды (кладет трубку, телефонисту). Соедини с наблюдением (телефонист соединяет). Ястреб? Первый. Наблюдай за леском на горизонте слева. Заметишь движение – сообщи. Понял? Повтори (пауза). Правильно (телефонисту). Дай комбата три (телефонист соединяет). Дон? Позови второго. Второй? Первый. Думаю, скоро начнут. К маневру готов? Хорошо. Команды не жди, действуй по обстановке (подает трубку).
Слышится грохот пушек, разрывы снарядов. Телефонный звонок, телефонист передает Пичугову трубку.
Пичугов: - Ястреб? Слышим. Наблюдай (Нестерову). Пусть долбят. В наших окопах пусто, заранее ушли в укрытия… (грохот нарастает).
Нестеров: - А нам придется экономить. Семьдесят снарядов на четыре орудия… (звонок, телефонист передает трубку, грохот смолкает).
Пичугов: - Ястреб? Белые пошли в атаку? Наблюдай. Что-то изменили тактику. Хитрят, похоже (снова звонок, берет трубку). Что-что? Цепь противника залегла? (Нестерову) Этим нас не купишь, научены. Артналет, атака и артналет (снова гром артиллерии).
Нестеров: - Теперь, похоже, по-настоящему долбают.
Пичугов: - Перед генералом выслуживаются (звонок, телефонист подает трубку). Запрещаю! Только по моей команде. Это можно. Из одного орудия, под шумок. И не в самый овраг, потом доведешь (Нестерову). Командир батареи просит разрешить огонь на подавление. Велел одним орудием пристреляться к резервам.
Нестеров: - Правильно, зачем рисковать батареей (гром нарастает, неподалеку разрывается снаряд).
Пичугов: - Нащупывает.
Нестеров: - Бьет по тылам (рвутся еще несколько снарядов дальше в тылу). Связь бы не нарушили, да медсанчасть…
Пичугов: - Не исключено (грохот смолкает). Теперь пойдут (звонок, берет трубку). Ястреб? Пошли в атаку? Чуем. Наши как? Заняли окопы, отбиваются!? Наблюдай! (Нестерову) Давайте три красных! (Нестеров с ракетницей выбегает).
Нестеров: - Полетели красные уточки! Почему третий молчит, пора бы?
Пичугов: (телефонисту) – Проверить всех! (телефонист проверяет).
Телефонист: - Дон молчит, Марс молчит, возможен порыв. Ястреб и Якорь на линии.
Пичугов: - Связных во второй и третий, связистов на линию!
Нестеров выбегает.
Телефонист: - Дон на линии! (подает трубку).
Пичугов: - Кто? Ты, комиссар?! Удалось? Клюнули?! Втягиваются за тобой! Почему молчал? Порыв? Сами восстановили? Давай, давай! Не переборщи!.. (подает трубку).
Нестеров возвращается: - Ну что там?
Пичугов: - Удалось. Провели генерала…
Нестеров: - Эх, черт, на передовую бы!
Пичугов: - Сам рвусь, аж тошно, да комбриг запретил… (телефонный звонок, берет трубку). Ястреб? Конница белых!? Откуда? Справа? Это наша конница. Белые бегут? Здорово бегут? Отрезают? Некоторые офицеры стреляются? Молодцы! А резервы? Зашевелились? Наблюдай! (телефонисту). Батарею! (телефонист вызывает). Кто? Первый, давай по резервам! Да-да батареей, давай! (Нестерову). Ну, Капитон Никифорович, кажется, наша взяла! (слышен грохот наших пушек). Так их, так! (звонок, берет трубку). Ястреб? Наши пошли в атаку!? Бегут? И резервы бегут!? Научили бегать! Это еще цветочки… (подает трубку). Ударила пружина, распрямилась! (телефонисту). Сообщите всем: Штаб полка - в селе Вишенки (Нестерову). Нужно сворачивать хозяйство, Капитон Никифорович! Я в войска (выходит, за избушкой слышен его голос: - Ординарец, коня!).
ЧАСТЬ 4
Картина вторая
20 июля 1919 года.
Возвращение с победой
Пичугов, Нестеров, Надя, Павел, молодой рабочий, красноармейцы, народ.
Площадь у церкви в Верхней Салде. Слева видна часть церковной ограды, возле которой на возвышении вполуоборот к зрителю стоит Пичугов. Справа, перегораживая улицу, ведущую на площадь, народ спинами к зрителю. Митинг.
Нестеров: (подходит к Пичугову, рапортует) – Товарищ командир полка, полк для участия в митинге построен!
Пичугов: - Здравствуйте, товарищи красноармейцы! (ответное «здраст!») Поздравляю вас и граждан Верхней Салды с победой! (троекратное «Ура!» всей площади).
Пичугов: - Вольно!
Нестеров: - Полк, вольно!
Пичугов: - Товарищи! Прошлый год, уходя отсюда, мы обещали вернуться с победой. Это слово мы сдержали! (многократное «Ура!»). Урал освобожден. Враг бежит, разбитые его дивизии откатываются в Сибирь. Мировая буржуазия и ее ставленник адмирал Колчак, просчитались. Никогда и никому не свергнуть Советскую власть, власть рабочих и крестьян! Тяжелы дороги войны и тяжел труд солдата. Многие пали на поле боя, многие погибли и здесь, в тылу, от зверств колчаковских приспешников. Почтим светлую память ваших земляков: Клюева Николая Гавриловича, Чачина Павла Ефимовича, Туранова Михаила Афонасьевича, Рыбакова Григория Алексеевича, мальчика Кешки и в их лице всех, кто отдал жизнь за власть Советов (делает знак, над площадью звучит траурная мелодия «Вы жертвою пали в борьбе роковой».
Нестеров: (за сценой) – Полк, смирно! В память павших во имя революции! Рота, пли! (залп, залп, залп, звучит «Интернационал»).
Пичугов: - Пусть эти залпы будут одновременно и салютом нашей победы! Враг отступает, но еще не разбит. Впереди новые бои и новые победы. Только победы! Нет силы такой, которую не сокрушил бы рабочий и крестьянин, отстаивая святое дело свободы!
Ваши земляки тому порукой. Мы с гордостью отмечаем преданных делу революции борцов: комиссара батальона Бабкина Александра Григорьевича, комиссара Лунева Михаила Антоновича, адъютанта полка Нестерова Капитона Никифоровича, военфельдшера Петрову Надежду Егоровну, славных воинов – Рыбакова Василия Григорьевича, Шепоренко Андрея Ивановича, Недотко Федора Афонасьевича, Рыбакова Константина Григорьевича, Исакова Василия Ивановича, Гулева Александра Яковлевича, Ермакова Василия Тимофеевича, Пряничникова Никиту Михайловича, Сухоросова Михаила Павловича.
Будьте уверены, они не подведут вас, не подкачают в будущих боях. Не за горами день полного освобождения нашей Родины. Вперед к новым победам! Партия уполномочила нас вернуть вам Советскую власть навечно! (крики «Ура!», движение в народе).
Берегите ее, как самое ценное сокровище. Такой власти в мире нет. Выбирайте поселковый Совет, смело стройте новую жизнь, а в первую очередь – пустите завод. Без металла нет победы!
Объявляю митинг закрытым.
Нестеров: (за сценой) – Полк, слушай мою команду! Поротно разойдись! Часовой привал!
Движение, красноармейцы и жители поселка вместе. Объятия, женские слезы. Отдельные женщины угощают красноармейцев молоком, хлебом.
Молодой рабочий подходит к Пичугову: - Товарищ командир, нас пятнадцать человек, все с конями. Скрывались в лесу от мобилизации белых. Прими к себе, руки на беляков чешутся…
Нестеров приближается к Пичугову.
Пичугов: (Нестерову) – С нами просятся, возьмем пятнадцать конных…
Нестеров: - А почему не взять? (рабочему). Через час будьте готовы к маршу на Нижнюю Салду (рабочий неумело козырнув, ныряет в толпу).
Надя с перевязанной левой рукой и Павел подходят к Пичугову, приветствуют.
Надя: - Здравствуйте, товарищ командир полка.
Пичугов: (удивленно) – Здравствуйте, товарищ военфельдшер. (Павлу) Дисциплины не вижу, товарищ Петров. Нарочно дал отпуск устроить ее в Тагильскую больницу.
Павел: - Виноват, товарищ командир полка, не подчиняется. Следом за вами на попутной подводе прибыли…
Пичугов: (Нестерову, смеясь) – На губу, товарищ адъютант?
Нестеров: - Учитывая боевые заслуги, ограничимся внушением…
Пичугов: (Наде) – Ладно, лечитесь дома.
Надя: - Да, я здорова, только вот рука…
Пичугов: - Дома, дома. Потом догоните полк. Муж пойдет с нами, еще встретитесь.
Надя: - Благодарю, товарищ командир полка.
Подходят к танцующим под гармошку красноармейцу и девушке. На всей площади веселье, песни…
Пичугов: (Нестерову) – Какой все-таки замечательный у вас народ на Урале!..
Конец